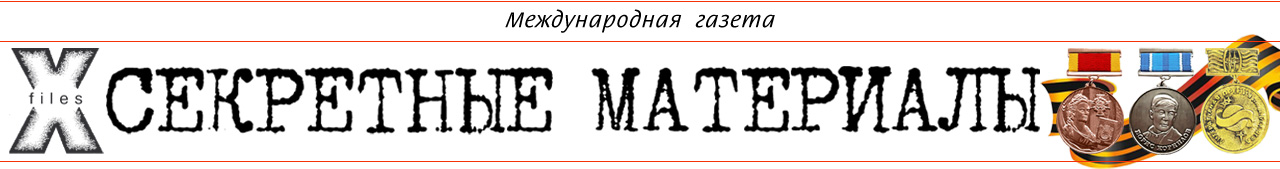|
РОССIЯ
Коррупция в царской России
Олег Логинов
журналист
Санкт-Петербург
26

Сергей Васильевич Иванов, «Приезд воеводы»
Коррупция, подобно неизлечимой болезни, прочно вошла в историю нашего государства. В разные эпохи она вызывала то более сильные, то более слабые волнения в государственном организме, нередко доводя его до критической точки, но, несмотря на множество попыток ее излечить, коррупция так и не исчезла совсем. Тяжкое наследство О Павле I сложился стереотип, что он солдафон и «пруссак». Император обрядил российскую армию в узкие прусские мундиры, заставил носить солдат неудобные парики и ввел палочные наказания. Однако были и в его деяниях и меры, направленные на оздоровление армии. Павел пытался ввести в войсках дух справедливого отличия и наказания вне зависимости от чина. Офицеры под суд отдавались вдвое чаще рядовых, и очень многие осуждались за казнокрадство... Александр I одолел непобедимого Наполеона Бонапарта, но приструнить коррупцию в своем отечестве не сумел. Язва казнокрадства, с которой решительно, но не очень успешно боролся еще Петр I, переходила как наследство от одного русского монарха к другому. Нельзя сказать, что они закрывали глаза на коррупцию. Отнюдь. В государстве постоянно кого-то уличали, жестоко наказывали, но само явление носило столь массовый характер, что даже цари порой удивлялись этому. Во время Крымской войны вскрылись факты жутких хищений при снабжении армии боеприпасами, обмундированием, продовольствием. Возмущенный император Николай I в разговоре с наследником престола заметил: «Сашка! Мне кажется, что во всей России не воруем только ты да я!» Чтобы узнать, есть ли в России честные чиновники, Николай I поручил III охранному отделению выяснить: кто из 56 губернаторов в Российской империи не берет взяток. Доклад «охранки» был неутешителен. Взятки не брали только двое: киевский губернатор Фунуклей и ковенский — Радищев. Царь призадумался. С Фунуклеем все было понятно: тот владел такими богатствами, что не нуждался в подношениях. Монаршее недоумение вызвал Радищев: тот-то почему не берет?! Честность автора книги «Путешествие из Петербурга в Москву» списали на чудачество. Разве ж нормальный чиновник станет отказываться от взяток и писать крамольные книжки? Определенно чудак! Кстати, любопытно, что неподкупный Фунуклей весьма лояльно относился к взяткам для полицейских чинов, полагая, что если им не будут помогать деньгами помещики, «то средства эти они получат от воров». Алчность и благородство Самым громким «коррупционным» скандалом эпохи Николая I стало дело тайного советника Александра Политковского — директора канцелярии «Комитета 18 августа 1814 года» (Инвалидного комитета). Политковский с несколькими сообщниками фабриковал пенсионные дела на вымышленных инвалидов. Будто бы они лечились за казенный счет, увольнялись из армии с выходным пособием и за счет казны отбывали к себе на родину, в какой-нибудь богом забытый уголок России. В середине XIX века русская армия вела активные боевые действия на Кавказе. В списки раненых солдат и офицеров мошенники вписывали «мертвые души», которые якобы лечились в лазаретах, становились инвалидами, получали отпуска домой, умирали. А деньги вместо них получал Политковский с сообщниками. Аферистов подвела жадность. Они стали брать деньги из кассы авансом — еще до того, как средства поступали из государственной казны. На этом и попались. Ревизия выявила недостачу. И та же жадность не позволила мошенникам эту недостачу погасить — уж очень им не хотелось расставаться с наворованными деньгами. В результате в ходе дальнейшей проверки афера выплыла наружу. Председателем судной комиссии был назначен генерал-фельдмаршал Паскевич. Суд признал доказанной растрату казенных денег в сумме 1 120 000 рублей серебром. Однако осуждены были только помощники Политковского. Сам он избежал позора, вовремя почив в бозе... Впрочем, кого в России удивишь казнокрадством? А вот дальнейшие события поразили всю страну. Вскоре после суда, осенью 1853 года, началась Крымская война. Камергер Яковлев из личных средств сделал два пожертвования Инвалидному комитету по 500 000 рублей серебром каждое, тем самым восполнив потери от воровства Политковского... Другая громкая история эпохи Николая I — дело петербургского обер-полицмейстера Кокошкина. Царь неоднократно высказывал министру внутренних дел Льву Перовскому неудовольствие от работы полиции. Министр разработал целую систему мер по улучшению работы своего ведомства. Но предупредил: эти меры дадут должный эффект в том случае, если Николай отстранит от должности Кокошкина, поскольку тот «сильно берет взятки». «Да, — ответил царь, — но я сплю спокойно, зная, что он полицмейстер в Петербурге». Кокошкин покинул свой пост лишь после того, как в Петербургской управе благочиния обнаружилось хищение 156 000 рублей. Но царь не оставил своей милостью проштрафившегося полицмейстера и... назначил его сенатором... «Неслыханный срам!» Трудно сказать, как оно было на самом деле, но не исключено, что пример губернатора Радищева подсказал Николаю I мысль: интеллигенты взяток не берут. И царь назначил на должность министра внутренних дел другого интеллигента — графа Льва Алексеевича Перовского, хотя тот имел пятно в биографии. Комиссией по расследованию событий 14 декабря 1825 года Перовский привлекался как член ранних декабристских организаций. Перовский всерьез взялся за борьбу с коррупцией. Ему удалось организовать ревизию надворного суда в Петербурге. Заключение ревизоров было сродни приговору: «Чиновники суда занимаются только теми делами, по которым с заинтересованных лиц можно получить мзду. Прочие уголовные и гражданские дела свалены в кучу вокруг канцелярских столов, и по ним никакой работы в течение многих лет не проводится». Ознакомившись с материалами ревизии, Николай I начертал: «Неслыханный срам! Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не извинительна» — и уволил петербургского генерал-губернатора графа Эссена... Коррупция не раз становилась серьезным препятствием на пути начинаний Перовского. Пытаясь навести порядок в торговле, он в 1842 году создал специальную торговую полицию. В ее обязанности входил контроль за ценами, санитарией, клеймением весов и мер, а главное — недопущение обмана, обмеров и обвесов. Новая служба состояла из гласных городской Думы, выделяемых на один месяц, и торговых смотрителей, выбиравшихся ежегодно купечеством. Торговая полиция была наделена серьезными полномочиями. Она имела право за первое нарушение наложить на торговца штраф — 30 рублей, за второе — 60 рублей, а за третье — закрыть торговое заведение и конфисковать половину незаконно проданного или перекупленного товара. По требованию членов торговой полиции уличенный в обмане торговец был обязан возвратить обманутому покупателю втрое против полученной с него суммы. В обязанности штатных полицейских вводилось всемерное содействие торговой полиции. Но на деле между ними нередко возникали разногласия. Низшие полицейские чины, говоря нынешним языком, нередко «крышевали» недобросовестных торговцев. А потому активность проверяющих из торговой полиции воспринимали как «старание отнять у них хотя и противозаконный, но как бы освященный временем хлеб». Да и сами члены новой службы оказались отнюдь не безгрешны. Граф Бенкендорф, начальник III отделения собственной Его Величества канцелярии, докладывал царю: чины введенной Перовским торговой полиции, «пользуясь доверием начальства, извлекают из своей должности большие для себя выгоды. Таким образом, и сила полиции потрясена, а польза от этих нововведений не всегда оправдалась». Спустя некоторое время торговая полиция была расформирована. Доходные кварталы Мздоимство полицейских чинов в виде подарков на праздники было фактически узаконено. Вот как обер-полицмейстер Санкт-Петербурга Власовский пытался отучить от этого своих подчиненных. Сохранился любопытный документ:
«Совершенно секретно. Между тем распространение мздоимства в ХIХ веке имело и объективные факторы.
Если при Екатерине II жалованье чиновников можно было назвать достойным, то с годами оно съеживалось, словно шагреневая кожа. Отчасти причина была в том, что зарплату чиновники получали ассигнациями. Если в екатерининские времена покупательная способность серебряных и бумажных денег была примерно сопоставимой, то с годами она стала разниться все больше и больше. Например, в 1806-м столоначальник Пермского горного правления получал в год 600 рублей ассигнациями, что соответствовало 438 серебряным рублям. А в 1829-м его оклад, выросший до 1 200 рублей, был эквивалентен 320 рублям серебром. Оклады сотрудников полиции были мизерными. Так, оклад квартального надзирателя не превышал 50 рублей, из которых производились еще вычеты, а его помощника — 28 рублей. Понимая, что на такое жалованье семью не прокормить, начальство сквозь пальцы смотрело на подношения сотрудникам. А побочные доходы целиком и полностью зависели от участка, что становилось еще одним рычагом управления для руководства полиции. И поощрение, и наказание по службе определялось переводом надзирателя из одного квартала в другой. Особенно ярко это отражалось на полицейских кварталах. В Москве их было около 70, и каждый квартальный надзиратель заранее знал, на что он там может рассчитывать. Доходность квартала зависела от количества торговых и промышленных заведений, которые там находились, и колебалась от 2 000 до 40 000 рублей в год. «Всего один грех» Словно осознав тщетность усилий на ниве борьбы с коррупцией, Александр II лишь сетовал на казнокрадство, но никаких решительных мер для борьбы с ним не предпринимал. Император был занят отменой крепостного права и другими реформами, а между тем в его правление чиновники совсем распоясались. Так, чтобы получить разрешение на открытие предприятия, необходимо было обратиться в Министерство внутренних дел. Там кандидату, не стесняясь, выдавали список сумм и лиц, которым требовалось «позолотить ручку»... В 1864 году в России были утверждены основные акты судебной реформы. В судебных процессах появилась новая фигура — присяжный поверенный, а проще говоря — адвокат. А принимать решения судьям теперь помогали выборные присяжные заседатели. Присяжные заседатели были плоть от плоти народной. Того самого российского народа, который сам испокон веков нес чиновнику сырое и вареное и в генах которого за много поколений укоренилась терпимость к ворам и взяточникам. Потому у присяжных рука не поднималась осуждать тех, кто брал подношения. Возможно, именно этим были обусловлены громкие победы в судебных процессах Федора Плевако и других адвокатов, защищавших расхитителей, растратчиков и взяточников. В этом плане весьма показательна такая история. Как-то Плевако поспорил с миллионером Саввой Морозовым, что сможет выиграть судебный процесс за одну минуту. Ему предстояло защищать священнослужителя, уличенного в растрате казенных денег. Речь Плевако на суде была сколь блистательной, столь и короткой. «Уважаемые господа судьи и присяжные заседатели! Уважаемый народ православный! — с чувством обратился он ко всем присутствующим в зале. — Конечно поступок батюшки нехорош. Но взглянем на дело по-людски, по-христиански. Ведь почти тридцать лет он молился за нас и отпускал нам грехи. Так отпустим и мы ему всего один грех, люди русские!» Закончив речь, адвокат взглянул на хронометр в своей руке. С начала выступления минутная стрелка еще не успела совершить полного оборота вокруг своей оси. Пари Плевако выиграл. Суд присяжных оправдал священника. Загадочная русская душа Такова она — загадочная русская душа. Преступления вызывают в ней подчас не возмущение, а совсем иные чувства. Мошенничество Хлестакова и мздоимство городничего в пьесе Гоголя «Ревизор» — вызывают смех, а убийство старухи в романе Достоевского «Преступление и наказание» — сочувствие к убийце Раскольникову. Кстати, эту особенность русского менталитета не раз использовали и русские сыщики. Неслучайно в своих кабинетах они вещали портрет не кого-нибудь, а бывшего каторжника Федора Достоевского, к которому относились с большим уважением. Рассказывают такую историю. Как-то следователь долго и безуспешно уговаривал одного чиновника сознаться в получении взятки, но тот упорно отрицал свою вину. Тогда следователь отпустил его домой, попросив перечитать «Преступление и наказание». На следующем допросе чиновник волшебным образом переменился. Перед следователем предстал не лощеный, уверенный в себе мужчина, а раскаявшийся грешник, глаза которого горели радостью искупления. Чиновник сознался не только в получении взятки, которая ему инкриминировалась, но рассказал еще о двух десятках подобных случаев, а также выложил всю схему поборов, сложившуюся в учреждении, где он трудился. Возможно, только в России перо писателя обладает столь волшебной силой... Что касается литературы, то в ХIХ веке особой популярностью пользовалась книга Эраста Перцова «Искусство брать взятки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умершего титулярного советника». В этом сатирическом исследовании содержалась подробная классификация взяток. Подарки, сюрпризы, обеды, вещи, словно нечаянно забытые, и, конечно, деньги — «предпочтительно ассигнации, потому что они переходят из рук в руки без стука и шума». Также книга содержала немало полезных советов: «Возьмите от того, кто дает больше, а прочих с шумом и гневом проводите за дверь»... Революционная ситуация Та же загадочная русская душа проявилась в годы революционного брожения. Максим Горький, например, активно участвовал в кампании по освобождению из-под ареста Тер-Петросяна и других революционеров, обвиняемых в «экспроприации» 250 000 рублей в Тифлисе на Эриванской площади. Никого из «прогрессивной общественности» не интересовало, что в ходе этого «экса» погибли два городовых, три казака и были ранены 16 случайных людей. Зато арест боевиков называли политическим произволом. В результате все арестованные по этому делу были выпущены на свободу... Но гораздо более серьезной предпосылкой революции 1917 года стала неспособность власти справиться с коррупцией. Чем дальше, тем сильнее коррупция разъедала эту самую власть, делая ее слабой и беспомощной. Особенно наглядно это проявилось в годы «правления» Григория Распутина, когда малограмотный мужик из глухой сибирской деревни раздавал должности столичным генералам. Доходило до того, что премьер-министр России Александр Трепов, чтобы снять с должности министра внутренних дел Протопопова, предлагал взятку Распутину. И взятку весьма внушительную: дом в Петербурге, оплату всех расходов, телохранителя и 100 000 рублей наличными. Но для старца власть была важнее денег. От взятки он отказался. Зато ближайшее окружение Распутина к деньгам дышало неровно и, пользуясь близостью к старцу, с легкостью приумножало свои капиталы... Незадолго до революции журнал «Русский мир» поместил большую статью, посвященную русскому взяточничеству. Читаешь ее сегодня — и возникает ощущение дежа вю. Будто сто лет назад некий провидец описывал будущее России «Нескончаемою вереницею тянутся сенаторские ревизии за ревизиями, идут газетные разоблачения за разоблачениями. И всюду встает одна и та же, лишь в деталях разнящаяся картина. Воистину «от хладных финских скал до пламенной Колхиды» сенаторские ревизии и газетные разоблачения открывают обширные гнезда крупных, тучных, насосавшихся денег взяточников, а около них кружатся вереницы взяточников более мелких, более скромных, более тощих. Около каждого казенного сундука, на который упадет испытующий взор ревизора, оказывается жадная толпа взяткодавцев и взяткополучателей, и крышка этого сундука гостеприимно раскрывается перед людьми, сумевшими в соответствующий момент дать соответствующему человеку соответствующую взятку. Сейчас за взяточничество принялись очень основательно. За границей уже успела образоваться новая колония своеобразных эмигрантов — бывших взяточников». Разложение общества и деградация власти в России в годы правления Николая II были настолько очевидны, что свержение самодержавия, в котором виделся источник всех бед, казалось лучшим лекарством. Но, как выяснилось, к победе над коррупцией победа над самодержавием не имела никакого отношения... Дата публикации: 10 июня 2007
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~vxXV8
|
Последние публикации
Выбор читателей
|