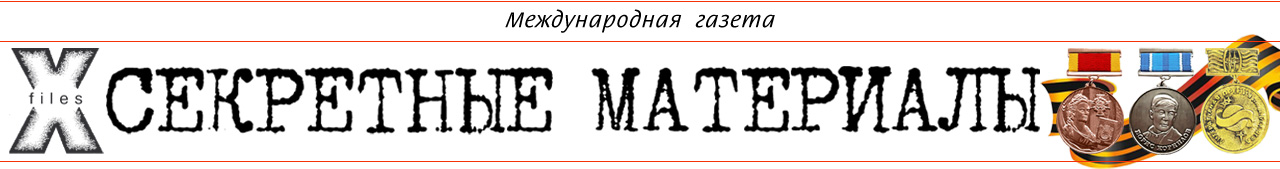|
СЕКРЕТЫ СПЕЦСЛУЖБ
«СМ-Украина»
Чекист-гуманитарий против церкви
Дмитриев Веденеев
историк
Киев
5462

Патриарх Тихон после окончания богослужения
Полковник Сергей Тарасович Карин-Даниленко (1898–1985) по праву считался «живой легендой» органов госбезопасности Украины. В его служебной биографии числятся оперативные игры с зарубежными центрами украинской политэмиграции, зафронтовая работа в тылу гитлеровцев, попытка создать подконтрольный НКВД «Провод ОУН» на Западной Украине в 1944-м, посредничество в переговорах с командованием УПА, «самоликвидации» Украинской греко-католической церкви, выполнение деликатных поручений Лаврентия Берии. «Имеет огромный опыт чекистской работы, лично провел весьма много сложных оперативных дел», — писали о нем кадровики МГБ УССР на излете его карьеры в 1946-м… СЫН КУЛАКА И ПАТРИОТ УКРАИНЫ На скрижали хрестоматийного жизнеописания заслуженного чекиста не принято было заносить его ведущую роль в изощренной борьбе безбожной власти со Святою Соборною и Апостольскою Церковью, с единством Православия в Украине в 1923–1931 годах… Да и иные драматические страницы истории религии на Украине не будут полными без учета роли этого незаурядного человека. Сергей Карин родился в 1898 году в селе Высокие Байраки Херсонской губернии (на территории современной Кировоградской области). Отец его, Тарас Александрович, происходил из крепостных, участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 годах в рядах любимого полка генералиссимуса Суворова — Фанагорийского гренадерского. От двух браков имел 15 детей, стал, как говорится, крепким хозяином. Дотошные материалы спецпроверки, составленные при восстановлении Карина-Даниленко на службе в органах госбезопасности в 1944-м, указывают, что отец чекиста был кулаком, имел до 70 десятин земли, конную молотилку, веялку, плуг, нанимал батраков и перепродавал скот. Позднее односельчане написали Карину о том, что его родители умерли от голода в 1933-м, в то время, когда их сын верой и правдой служил в советской внешней разведке. Интересно то, что будущий борец с «украинским буржуазным национализмом» в юности являлся «национально сознательным» украинцем. Обучаясь в 1911–1919 годах в Елисаветградском коммерческом училище, как говорится в документах, «принимал участие в украинском нелегальном кружке шовинистического направления» («шовинистами» в специфической по национальному составу чекистской среде 1920–1930-х годов именовали украинских национал-патриотов и «самостийников»). «Был безусловно заражен шовинизмом ради спасения «неньки Украины» — каялся Сергей Тарасович в автобиографии от 14 сентября 1923 года. При проверках 1939 и 1944 годов односельчане Карина показали, что тот «высказывался националистически» буквально незадолго до его вербовки в секретные сотрудники ЧК в 1921 году. Сергей прекрасно владел украинским языком, и в период украинизации даже входил в комиссию по «испытанию знания украинского языка» сотрудниками ГПУ УССР. В Гражданской войне выпускник Елисаветградского реального училища примкнул к большевикам. На бронепоезде «Смерть белым!» принимал участие в боях с деникинцами и махновцами, пока молодого человека не свалил тиф. Лечился дома у отца, потом работал помощником землемера. Чудом избежал гибели, когда в декабре 1919-го родное село разгромили «белые» каратели элитной Дроздовской дивизии. После выздоровления основал в родном селе, совместно с актрисой Алисой Вербицкой, любительский театр. Вскоре по ложному доносу Сергея арестовала Елисаветградская уездная ЧК. Это случилось осенью 1920 года. К счастью, его не поспешили «вывести в расход». Видимо в это время юноша чем-то приглянулся чекистам. Он согласился стать секретным сотрудником (по современным понятиям — агентом). С тех пор судьба Карина уже неотделима от органов госбезопасности. В 1922-м году для удобства работы в Украине, он прибавил к своей фамилии приставку «Даниленко».
РИСКОВАННЫЕ ИГРЫ Первыми серьезными оперативными испытаниями для будущего контрразведчика стали операции по разработке подпольных органов украинского повстанчества. В июле 1921 года Карин-Даниленко в составе опергруппы Киевской губернской ЧК, принял участие в ликвидации «Украинской войсковой организации сечевых стрельцов». Карин через однокашника по училищу — студента Турянского, внедрился в подпольную «Украинскую войсковую организацию» и содействовал ее ликвидации. Затем последовала ликвидация «Всеукраинского петлюровского повстанкома» и Уманского повстанкома (август 1921 года). В сентябре-ноябре 1921 года неофит ЧК внедрился в елисаветградскую подпольную антисоветскую организацию «Народная месть» и подвел ее под ликвидацию. Вскоре Карину пришлось овладеть амплуа «связного атамана Новицкого, действовавшего на Елисаветградщине», и якобы направленного с донесениями в закордонный Повстанческо-партизанский штаб (ППШ) при Генштабе армии Украинской Народной Республики в эмиграции. Войти к Новицкому в доверие помог ранее внедренный в его формирование агент ВУЧК «Петренко». Старшие коллеги-чекисты обучали Сергея линии поведения на допросах, объясняли нюансы ситуации в эмиграционной среде. В сентябре 1921-го Карина переправили в Польшу, и он три недели провел в беседах с самим главой ППШ атаманом Юрием Тютюнником. Польская контрразведка-«дефензива» не сумела разоблачить артистично, даже вызывающе ведшего ролевую игру агента ЧК. Риск оправдал себя — чекист не только продвинул заготовленную дезинформацию, но и собрал сведения о готовящемся рейде генерал-хорунжего Василия Нельговского. Тютюнник, амбициям которого льстила информация об успехах повстанцев в Украине, сообщил Карину такие подробности своих боевых планов, что даже в штаб-квартире ВУЧК долго не могли поверить в истинность добытых сведений. Однако упреждающие меры приняли. 23 сентября отряды генерала встретили подготовленный отпор и потерпели поражение под Новоград-Волынском на Житомирщине. Добытые Кариным сведения дорого обошлись повстанцам, а дезинформация сбила с толку штабистов Тютюнника. Которые при проведении рейда рассчитывали на поддержку мифических подпольных организаций и неисчислимую повстанческую рать. Дезинформация стала одной из решающих причин поражения отчаянного «Второго Зимнего похода» армии УНР в ноябре 1921 года. Наградой разведчику стали золотые часы и перевод в центральный аппарат ВУЧК как «оказавшего большие услуги секретного сотрудника».
НАСТАВНИК ПО ТАЙНОМУ РЕМЕСЛУ Кадровым сотрудником советской спецслужбы Карин-Даниленко стал 14 августа 1922 года, заняв должность уполномоченного Секретного отдела (СО) в Секретно-оперативной части (СОЧ) Главного политического управления (ГПУ) УССР (на этой должности он пробыл до 1927 года). Вскоре начальник СОЧ Быстрых дал позитивную характеристику подчиненному — хороший агентурист, спокойный, настойчивый, добросовестный, работая секретным сотрудником «оказал большие услуги». Особое место в использовании актерских способностей Сергея Даниловича для улучшения мастерства сотрудника спецслужбы, ведущего рискованную оперативную игру, да и в дальнейшей его чекистской карьере, сыграл Валерий Горожанин. Он являлся заметной фигурой в советской политической контрразведке и внешней разведке, определенное время выступал координатором оперативной работы «по церковной линии» в Украине, и о нем стоит сказать несколько слов. Валерий Михайлович Горожанин (настоящая фамилия, по одной из версий — Кудельский) родился в 1889 году в Аккермане (ныне Белгород-Днестровский) Бессарабской губернии, в семье страхового агента. Закончил экстерном гимназию, и в 1909-1912 и 1917 годах обучался на юридическом факультете Новороссийского университета в Одессе (закончил четыре курса). Это позволило ему, впоследствии выделиться образованностью и общекультурным уровнем среди коллег по ГПУ-НКВД УССР и способствовало работе среди интеллигенции. Ведь к 1934 году среди 209 руководителей разных уровней на столичной Харьковщине только 5 имело законченное высшее образование, а не менее 70 — получили низшее образование или писались в анкетах «самоучками»). Уже в 1908 году Валерий «за революционную деятельность» попал в Тираспольскую тюрьму, где содержался вместе с легендарным бессарабским бандитом и будущим командиром кавалерийского корпуса РККА Григорием Котовским. До революции будущий генерал спецслужбы состоял в партии социалистов-революционеров (эсеров, известных своим индивидуальным террором против властей). Побывал в ссылках, после вольноопределяющимся пошел на фронт Первой мировой войны, но в 1916-м дезертировал, в 1917-1918 годах примыкал к украинской партии боротьбистов. Послужив в Красной Армии, Валерий Михайлович в 1919 году окончательно связал свою жизнь с органами госбезопасности — стал следователем по особо важным делам Одесской ЧК, которая славилась жуткими пытками и изощренными убийствами арестованных «классовых врагов» (хотя данных о причастности к ним недоучившегося юриста у нас нет). Во время деникинской оккупации попал в руки «белой» контрразведки и был приговорен к расстрелу, однако был освобожден взявшей город Красной Армией. В 1920 году перешел на оперативную работу, состоял уполномоченным по борьбе с контрреволюцией, заведующим секретно-оперативным отделом и членом коллегии Николаевской губернской ЧК. Именно в это время Горожанин подготовил и внедрил в петлюровское подполье чекиста Карина-Даниленко, преподав ему первые уроки разведчика. Длительное время Горожанин служил руководителем секретно-политических подразделений органов госбезопасности Украины и СССР, занимавшихся оперативной разработкой политических и общественных организаций, интеллигенции, «церковной контрреволюции» и «сектантов». С февраля 1921 г. — начальник Секретного отдела (СО) Центрального управления ЧК Украины в Харькове, начальник СО Всеукраинской ЧК, с марта 1922-го и до мая 1930-го — начальник СО (секретно-оперативной части) ГПУ УССР. В это же время под его кураторством «продуктивно» работал по «церковникам и сектантам» Карин. Начертанная красным карандашом виза Горожанина стоит под его «церковными» аналитическими отчетами. Результаты агентурно-оперативной работы Горожанина и его подопечных по разрушению Церкви были в декабре 1927 года отмечены довольно редким тогда орденом Красного Знамени (кроме того, чекиста-«гуманитария» дважды поощряли высшей ведомственной наградой — знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ»). Горожанин в воспоминаниях современников предстает хрупким человеком с красиво посаженной крупной головой и шапкой густых волнистых волос с проседью. Низкий голос приятного тембра резко контрастировал с решительностью в высказываниях, а «мягкая, впечатлительная, художественная натура» плохо гармонировала с делом его жизни. Валерий Михайлович, судя по всему, был разносторонней личностью, имел обширные знакомства среди интеллигенции (сейчас бы сказали — «человек тусовки»), что помимо расширения оперативных возможностей, давало возможность «растворять» общение с секретными сотрудниками и осведомителями, коими была пронизана творческая и научная среда. Среди его друзей оказался даже Владимир Маяковский. Пролетарский поэт в то время «жил втроем» (когда о «шведской семье» еще не слыхивали и в самой Швеции) с горячей сторонницей «свободной любви» Лилей Брик и ее мужем Осипом Бриком (бывшим чекистом). Их квартиру-салон часто посещали сотрудники ведомства Дзержинского, и пролетарский поэт посвятил им в 1927-м немало стихов. Среди них стих «Солдаты Дзержинского», посвященный «Вал. М.» — Валерию Горожанину (они даже написали совместно сценарий «Инженер Д’Ар-си» («Борьба за нефть»). Что собой представляло окружение негласного сотрудника ГПУ Лили Брик (женщины с сексуальными патологиями) описывает Аркадий Ваксберг в книге «Лиля Брик». Встречаясь в 1922 году с эмигрантами в Берлине, сотрудник ГПУ Осип Брик «тешил друзей кровавыми байками из жизни ЧК, утверждая, что был лично свидетелем тому, о чем рассказывал. А рассказывал он о пытках, о нечеловеческих муках бесчисленных жертв», включая истязания православных священников. Когда в августе 1930 г. Совнарком СССР постановил передать Лиле Брик половину наследства застрелившегося Маяковского (авторские права), отмечает Ваксберг, — Брики устроили неприкрытое торжество и пьянку: «Постановление правительства о введении Лили в права наследства отмечали в том же Пушкине, на даче, где каждое дерево и каждый куст еще помнили зычный голос Владимира Маяковского. Арагоны (известный писатель Луи Арагон был женат на сестре Л.Брик — Авт.) уехали, все остались в своей компании и могли предаться ничем не стесненному веселью». С 7 мая 1930 года Горожанин пошел на повышение по той же линии работы — заместителем начальника Секретного (Секретно-политического) отдела ОГПУ СССР. 5 июля 1933 года чекиста перевели во внешнюю разведку ОГПУ-НКВД СССР (в межвоенный период — едва ли не лучшую спецслужбу мира) — помощником начальника, а затем и заместителем начальника Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ — ИНО Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД СССР. Вряд ли случайным был и переход Карина во внешнюю разведку — в 1934–1937 годах он служил помощником начальника Иностранного отдела ГПУ-УГБ НКВД УССР. Кстати, Горожанин выдвинул еще одну легендарную личность — будущего генерал-лейтенанта и заместителя начальника внешней разведки Павла Судоплатова, которого со временем назовут «террористом СССР №1». Павел Анатольевич, как известно, ликвидировал в 1938 году в Роттердаме основателя и лидера Организации украинских националистов Евгения Коновальца, в годы Великой Отечественной войны возглавлял 4-е Управление НКВД-НКГБ СССР (зафронтовая разведывательно-диверсионная работа), а в послевоенные годы служил руководителем подразделения нелегальной разведки по добыче атомных секретов за рубежом, диверсионно-террористического подразделения МГБ СССР. «Горожанин имел большое влияние на украинскую творческую интеллигенцию, — писал сын П. Судоплатова, профессор Анатолий Судоплатов, — они благодаря Горожанину вышли на широкую дорогу жизни и творчества». И Герой Советского Союза полковник Дмитрий Медведев отмечал в воспоминаниях, как «учился у Горожанина мастерству тонкой комбинационной игры с противником». Увы, в противники записали и тысячелетнюю Православную Церковь. К организации работы по «церковной линии» также имели прямое отношение и иные высокопоставленные чекисты, ценившие Карина. Среди них — заместитель начальника и начальник Секретно-политической части ГПУ УССР (1922–1924) Николай Быстрых («отличившийся» в конце 1920-го как начальник Особого отдела 6-й Армии и Крыма при «фильтрации» и уничтожении на полуострове 12 тыс. «враждебных элементов», и расстрелянный 22 сентября 1939 года). Другой его начальник комиссар госбезопасности 3-го ранга Карл Карлсон, расстрелянный после 22 апреля 1938 года, «признался» в том, что был вредителем, провокатором царской охранки, латышским, немецким и польским шпионом. Борцом с религией служил и Василий Иванов — член Всеукраинской антирелигиозной комиссии при ЦК КП(б)У, начальник столичного Харьковского областного отдела ГПУ, по совместительству — руководитель Учетно-информационного управления ГПУ УССР, контролировавшего и религиозные настроения населения (Иванова расстреляли 16 июля 1937-го в Москве).
«НОЧЬ БУДЕТ ДЛИННАЯ…» 7 апреля 1925 года, в праздник Благовещения, в возрасте 60 лет скончался Патриарх Московский и Всея Руси Тихон (Беллавин), избранный на этот пост после 300-летнего перерыва в истории Патриаршества, на Всероссийском Поместном Соборе 18 ноября 1917 года. Патриарх скончался в возрасте 60 лет, по официальным данным от сердечной недостаточности. За несколько часов до смерти первосвященник РПЦ произнес: «Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная-темная»... Действительно, поистине темный период гонений на Православие только начинался. Накануне Первой мировой войны Российская Православная Церковь (РПЦ) представляла собой официальную религию Российской империи, и имела солидную структуру — насчитывалось до 125 миллионов православных верующих (70% населения), 130 епископов, свыше 120 тыс. священников, диаконов и псаломщиков, 107 тысяч монашествующих и послушников. Насчитывалось 67 епархий, свыше 78 тысяч храмов и часовен, 1256 монастырей, 4 духовные академии, 62 духовные семинарии, 185 духовных училищ. Однако выступления многих религиозных деятелей того времени полны беспокойства и даже ужаса от реального состояния клира и иерархии. Будущий священномученик Серафим (Чичагов) в письме от 14 ноября 1910 года бил тревогу: «Пред глазами ежедневно картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло свое положение! Все то же пьянство, разврат, сутяжничество, вымогательство, светские увлечения! Последние верующие — содрогаются от развращения или безчувствия духовенства, и еще немного, сектантство возьмет верх… …Духовенство катится в пропасть, без сопротивления и сил для противодействия. Еще год — и не будет даже простого народа около нас, все восстанет, все откажется от таких безумных и отвратительных руководителей... Что же может быть с государством? Оно погибнет вместе с нами! … Все охвачено агонией и смерть наша приближается». Несмотря на усилия ряда архиереев, священников, части «богоискательской» интеллигенции, бурное развитие социальной и миссионерской деятельности Церкви, всецело зависимая от державы РПЦ не получала «санкции свыше» на ответы вызовам времени. Росли антиклерикальные настроения, снизу среди клира распространялись настроения христианского радикализма, христианского социализма и реформизма, росло социальное расслоение духовенства и неприязнь против «архиерейско-монашеского деспотизма». Закладывались идеологические основы будущего «обновленческого» раскола (хотя тогда под обновлением вовсе не мыслилась конфронтация с канонической Церковью). …Бесчинства и убийства священнослужителей бандитствующими элементами началось в 1917 году еще до прихода большевиков к власти. К началу же 1920-х Православная Церковь подошла серьезно ослабленной Гражданской войной, гонениями на верующих, эмиграцией. По неполным данным, за годы Гражданской войны 1917-1922 годах погибло 28 архиереев, несколько тысяч священников и монахов, до 12 тысяч верующих, вставших на защиту Церкви. Имеется и другая статистика: к 1924 году на территориях, где установилась советская власть, погиб 21 епископ, умерло 59, потеряли свободу 66 архиереев. По другим данным, в этот же период погибло до 15 тысяч представителей клира и монашества. Известный историк Церкви Поспеловский приводит данные о том, что во время кампании по конфискации церковных ценностей 1922 года было расстреляно или погибло в столкновениях по защите святынь свыше 8 тыс. человек, из них 2691 представителей «белого» духовенства, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц. Сам Патриарх Тихон подвергался аресту и допросам во внутренней тюрьме ГПУ. Под угрозой применения санкций, вплоть до высшей меры наказания, первосвященник РПЦ выступил с заявлением от 16 июня 1923 года в Верховный Суд РСФСР с ходатайством об изменении принятой в отношении него меры пресечения, и выражал раскаяние в «поступках против государственного строя»: «Признавая правильность решения Суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям уголовного кодекса за антисоветскую деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный Суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из под стражи… При этом я заявляю Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции». Но и это не спасло Патриарха от дальнейшей «разработки». По указанию Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) с начала 1925 года, под руководством начальника 6-го отделения (оперативная работа против религиозных объединений) Секретного отдела (СО) ГПУ Евгения Тучкова, началась разработка «Дела шпионской организации церковников» (якобы — во главе с Патриархом), что угрожало ему высшей мерой наказания.
Читать далее > Дата публикации: 27 апреля 2020
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~SeyWg
|
Последние публикации
Выбор читателей
|