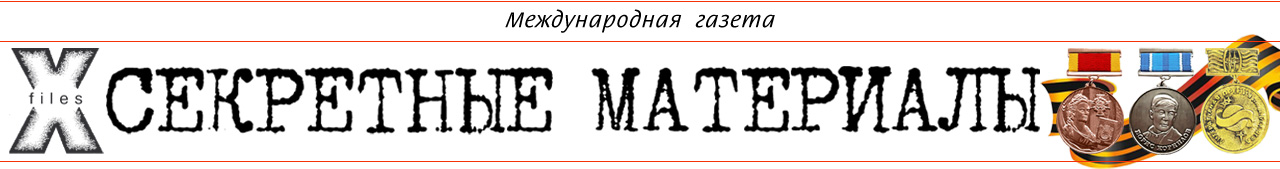|
ВОЙНА
«Секретные материалы 20 века» №16(480), 2017
Как выслеживали оборотня
Наталья Матвеева
журналист
Санкт-Петербург
2069

Полицаи, они же «служба порядка» на оккупированных территориях
После Великой Отечественной войны полицаи и каратели, подделав документы и поменяв фамилии, растворились на просторах страны. Но по их запутанным следам настойчиво и упорно шли чекисты. Советские спецслужбы делали все возможное, чтобы никто из них не избежал заслуженного наказания. НАЦИСТСКИЕ ШИФРОВКИ В послевоенные годы к советским контрразведчикам попали документы нацистской тайной полиции. Вот один из них — из архива Псковского УКГБ: «18 августа 1942 года, в 6 ч. 30 мин. отряд Новосокольнической «службы порядка» в количестве 16 человек находился на марше с целью проведения разведывательной операции в районе населенного пункта Рама — в 14 км северо-западнее Новосокольников. Руководил операцией группенфюрер Романов. На обратном пути, 12 км северо-западнее Новосокольников, отряд был атакован партизанами. Огневая мощь противника составляла примерно 5–6 легких пулеметов, гранатомет и 40 винтовок. Сотрудники «службы порядка» вынуждены были отходить по лежащей южнее болотистой местности. Группенфюрер Романов был тяжело ранен и остался лежать на поле боя. Сотрудник Беляев был легко ранен в правую пятку и смог спастись. Можно с уверенностью утверждать, что убиты два партизана и одна партизанка». Кто были эти 16 человек из «службы порядка», возглавляемые группенфюрером с русской фамилией? Расследованием деятельности созданного оккупантами в Новосокольническом районе карательного отряда «службы порядка» предстояло заняться следователю Псковского УКГБ старшему лейтенанту госбезопасности Виталию Николаевичу Рябчуку — спустя пятнадцать лет после окончания войны. Это было непросто, так как многих свидетелей уже не было в живых. И все-таки это сложнейшее дело удалось раскрыть.
НОВОЕ ИМЯ В ДЕЛЕ Выехав в Новосокольнический район, Виталий Николаевич провел много встреч с жителями, и некоторые эпизоды деятельности карателей стали проясняться. Вот один из эпизодов, произошедших летом 1942 года в деревне Борок. В гости к местной жительнице Матрене Ильиничне Кирсановой пришла ее родственница Екатерина Кузьминична Кирсанова. А несколько раньше в соседний дом Романовых заявился сын хозяев — тот самый группенфюрер жандармерии, упоминавшийся в донесении тайной полиции. Романов привел с собой еще двух полицейских. Хозяева выставили на стол самогон и закуску. В застолье участвовал местный лесник по имени Семен. Увидев в окно молодую худенькую женщину, он сказал полицаям: «Вон разведка пошла». Те поинтересовались, что за разведка. Лесник ехидно ответил: партизанская. Взяв автоматы, полицаи вышли на улицу. Из показаний Матрены Ильиничны Кирсановой: «Едва Катя Кирсанова вошла ко мне в дом и присела на лавку, как в дверь ввалились три пьяных полицая. Они выгнали меня на улицу, а сами остались. Через некоторое время в доме раздался выстрел. Полицаи вывались на улицу и, матерясь, ушли. Я вбежала в дом и увидела, что Катя сидит бледная и держится за грудь рукой. Блузка у нее была вся в крови. Катя сказала, что ее ранил полицай. Я хотела уложить Катю в постель, но она отказалась и ушла к себе домой в деревню Новоселки». Из показаний бывшего полицая Цветкова: «В доме Матрены Кирсановой я стал допрашивать Екатерину Кирсанову о ее связи с партизанами. Она рассмеялась мне в лицо и заявила, что ее уже пытали об этом немцы, даже ее дом поджигали в острастку, но она ничего не сказала, а нам и подавно ничего не скажет. Меня это разозлило, и я выстрелил из пистолета Кирсановой в грудь, попал, кажется в плечо. Но она все равно ничего не сказала. Мы пошли искать подводу, чтобы отвезти Кирсанову в Новосокольники, но, когда вернулись, Екатерины в доме не оказалось. Тогда мы кинулись искать ее в деревне Новоселки. Увидели обгорелый дом и вспомнили: Кирсанова говорила, что немцы, стращая ее при допросе, подожгли избу. Мы вошли в этот дом, там была мать Кирсановой. На наш вопрос она заявила, что дочери дома нет. Мы стали кричать на нее, угрожать. Тогда вдруг с печки раздался голос: «Не троньте, сволочи, мать». И с печки спустилась Екатерина. У нее на блузке запеклась кровь. Мы вывели ее на улицу и из автомата в голову… Нам надоело возиться с ней, да и разозлило ее упорство, поэтому убили на месте. Когда доложили начальнику жандармерии Шульцу, тот нас немного поругал: дескать, надо было привезти ее, хорошенько допросить, а потом уж… Шульц еще говорил, что, по данным гестапо, Кирсанова действительно была связана с партизанами». На вопрос следователя, кто еще участвовал в убийстве Кирсановой, Цветков рассказал, что был еще Романов, которого вскоре убили партизаны у деревни Рамы, и некий Плывч. По словам карателя, именно он стрелял из автомата в голову Кирсановой. Так в деле появилось имя еще одного карателя. Органам госбезопасности была известна эта фамилия: Сигизмунд Плывч значился как активный пособник фашистов.
РОЗЫСК ВОЗОБНОВИТЬ Плывч, по происхождению поляк, до войны проживал в городе Новосокольники. Когда город оккупировали немцы, он поступил к ним на службу в полицию, в так называемую «службу порядка» (Ordnungdienst), которая находилась в подчинении германской полевой жандармерии. Тогда же он познакомился с жительницей города Антониной и женился на ней. Сначала семья Плывчей остановилась в городе Себеже Псковской области, затем вместе с немцами выехала на территорию Латвии. Там они остались и после ухода германских войск. В Латвии Плывч был призван в Советскую армию. В январе 1947 года Новосокольнический райотдел КГБ объявил его в розыск, но потом были получены сведения, что Плывч погиб где-то в Германии, и в декабре 1947 года розыск был прекращен. Однако в 1955 году УКГБ по Великолукской области были получены новые данные, которые побудили чекистов возобновить розыск Плывча. В Латвии, в городе Краслава, была обнаружена Антонина Ивановна Плывч 1922 года рождения. Выяснилось, что живет она с дочерью, работает, ведет себя скромно, получает пенсию за пропавшего без вести на фронте мужа. Проверка показала: 10 июля 1954 года Антонина Плывч обращалась с заявлением в народный суд, где указала, что в 1943 году в городе Себеже вступила в брак с Сигизмундом Иосифовичем Плывчем, от которого имеет дочь. В 1945 году муж пропал без вести на фронте. Она просила суд установить факт смерти мужа, — это было необходимо ей для получения пенсии на ребенка. К заявлению она приложила извещение военкомата № 261 от 11 августа 1946 года, в котором сообщалось: «Красноармеец Плывч Сигизмунд Иосифович, уроженец города Новосокольники Калининской области, в бою за социалистическую Родину пропал без вести 06.04.45 года». Народный суд своим определением признал его умершим, а вдове была назначена пенсия. У следователя не было сомнений: это тот самый Сигизмунд Плывч. Но дополнительная проверка все же требовалась. 22 сентября 1960 года Рячук допросил Антонину Плывч. С первых же слов женщины он понял, что она — жена разыскиваемого карателя. Та рассказала, как познакомилась с Сигизмундом в 1942 году. Следователь задал вопрос, знала ли она, чем он занимался тогда. Женщина ответила: ей только было известно, что Плывч служит у немцев, видела у него оружие, но о его карательной деятельности ничего не знала. В 1943 году, когда немцы стали отходить на запад, Сигизмунд уехал в Себеж, взяв и ее с собой, там они и поженились, а в 1944 году оказались в Прибалтике. Когда туда пришли советские войска, мужа мобилизовали и отправили на фронт. Из армии он прислал ей всего три письма, одно было из госпиталя. В последнем письме повел разговор о том, что она может считать себя свободной и вольна создать новую семью. Потом связь с мужем оборвалась. Потом было извещение: пропал без вести. Дальнейшая проверка показала, что Антонина Плывч не солгала и действительно живет в полном неведении относительно судьбы мужа. Она отдала следователю несколько его фотоснимков. С довоенных фотографий смотрело симпатичное лицо молодого мужчины, хорошо и по моде одетого. Трудно было представить, что этот человек хладнокровно расстреливал невинных людей.
КАРАТЕЛЬ-ФРОНТОВИК Теперь в руках у чекистов появилась новая страница жизни Плывча — его служба в рядах Советской армии. Выходило, что, скрыв свое преступное прошлое, бывший каратель и палач надел красноармейскую шинель и влился в ряды фронтовиков. На запрос из Великих Лук пришел ответ из Даугавпилса, подтверждающий, что Плывч был призван в ряды Советской армии и направлен для прохождения службы в воинскую часть «полевая почта № 28042». Архив Министерства обороны подтвердил: «По книге учета рядового и сержантского состава 1278-го стрелкового полка значится красноармеец Плывч Сигизмунд Иосифович, уроженец Калининской области. Ранен 01.02.45 года, выбыл в медсанбат № 473». Чекисты принялись искать его следы в военно-медицинских архивах. Сотрудники Архива военно-медицинских документов в Ленинграде подошли к выполнению запроса из Великих Лук весьма ответственно и добросовестно. Вот их ответ: «В книге учета раненых и больных медсанбата № 473 Сигизмунда Плывча не значится. Значится Сергей Осипович Плавин, красноармеец 1278-го стрелкового полка, который 01.02.45 года получил сквозное пулевое ранение левого предплечья и правого бедра и со 02.02.45 года находился на лечении в медсанбате».
ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК? Плавин Сергей Осипович… Как будто бы совершенно другой человек. Но какое поразительное совпадение: ранен в тот же день, что и Плывч, служил в том же самом 1278-м стрелковом полку, поступил в тот же медсанбат. Да и фамилии схожи… По архивным документам чекисты проследили дальнейший жизненный путь рядового Плавина. 18 сентября 1945 года он был назначен командиром орудия все в том же 1278-м стрелковом полку. Но ведь это уже после окончания войны. Получается, что красноармеец Плавин вылечился и пережил войну, а рядовой Плывч сгинул без вести еще в апреле все того же 1945-го. Профессиональное чутье контрразведчиков побуждало идти дальше по следу этого человека: уж больно загадочным было то сообщение из медсанбата. И действительно, как потом выяснилось, Плывч, попав после ранения в медсанбат, уничтожил свою красноармейскую книжку и выдал себя за Плавина. С этим именем он закончил в 1946 году службу в армии, под этой же личиной продолжал жить на гражданке. Теперь по всесоюзному розыску искали уже не Плывча, а Плавина. А следователь продолжал опрос жителей Новосокольнического района, которые рассказывали о зверствах карателя. Из показаний Ольги Тимофеевны Костровской: «В октябре сорок первого я видела, как Плывч с винтовкой в руках в числе других полицейских конвоировал на расстрел группу арестованных. Среди арестованных был и знакомый мне Гусаков. Мать Гусакова, увидев сына, с криком бросилась к нему, но Плывч заорал на нее и оттолкнул женщину винтовкой. За зданием военкомата арестованных расстреляли». Из показаний Ольги Ивановны Лазаревой: «В ноябре сорок первого Плывч приехал в нашу деревню Боровинки и стал требовать от Рудакова лошадей и подвод. Тот отнекивался, не хотел выходить из избы. Плывч пригрозил ему: «Не пойдешь — застрелю». Мать Рудакова кинулась к сыну, заслонила его. Плывч ударил ее прикладом в лицо, разбив до крови, а Рудакова вывел во двор и застрелил». Из показаний Константина Константиновича Москалева: «Зимой 1941-го группу арестованных, среди которых был и знакомый мне Дмитриев Александр, вели на расстрел. Увидев меня, Дмитриев закричал: «Скажи моей маме, что…» Но Плывч не дал ему договорить, ударил парня. Я потом ходил на место расстрела и нашел слегка присыпанного снегом Сашу Дмитриева». Из показаний Лукерьи Никандровны Богдановой: «Летом 1942 года немцы и полицаи нарвались возле нашей деревни на мины, несколько немцев погибло. Тогда каратели схватили Ефросинью Гвардину, у которой трое сыновей ушли к партизанам, и приказали ей идти по минному полю, а сами двинулись за ней следом. Когда поле кончилось, Плывч заявил Гвардиной: «Раз прошла без взрыва, значит, знаешь, где партизаны поставили мины» — и застрелил ее». Как было установлено, у Плывча была старшая сестра, которая до войны проживала в Новосибирске. Решили проверить, не ездил ли Плывч под фамилией Плавин повидаться с ней после мобилизации. Версия подтвердилась. Выяснилось, что Сергей Осипович Плавин в послевоенные годы успел поработать кладовщиком в штабе Сибирского военного округа, затем работал грузчиком в новосибирской конторе «Мясорыбторга». А с 1957 года работал буровым рабочим и грузчиком Камчатского геолого-разведывательного управления. Ему выносились благодарности, а портрет помещен на Доску почета. Рябчук выслал камчатским коллегам копию фотографии Плывча. Ответ был ожидаемым: Плывч и Плавин — одно и то же лицо.
ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ КАРАТЕЛЯ 12 сентября 1960 года каратель был арестован в Петропавловске-Камчатском и доставлен на допрос к Рябчуку. Плывч признал, что живет под вымышленной фамилией, что во время войны служил у немцев в полиции, занимался карательной деятельностью. Он подробно и многословно рассказывал следователю о том, как ему выдали трофейное обмундирование: «Чьи-то обноски — и лишь потом только форму: френч, бриджи, шинель. А вот на сапоги и шапку немцы пожадничали, пришлось носить свои». Платили ему всего 35 марок в месяц. Следователи, расследуя уголовные дела о деятельности карателей, привыкли к их рассказам о том, что им, «бедным подневольным», приходилось выполнять приказы немцев по сбору продуктов, добывать подводы и закапывать трупы. Вот и Плывч рассказал, что с винтовкой ходил, но никого не расстреливал; у него была лопата, и он лишь закапывал трупы. Занятая обвиняемым позиция потребовала проведения многочисленных очных ставок. Поскольку большинство свидетелей проживало в Новосокольническом районе, пришлось везти арестованного через всю страну туда. На первом же допросе в псковском управлении обвиняемый заявил, что рассказал все, что помнит о своей службе у немцев, а больше ничего добавить не может. Так сказать, у него якобы развилась выборочная амнезия в отношении карательной деятельности, хотя в Петропавловске он на плохую память не жаловался. Но на очной ставке с «коллегой» Цветковым ему пришлось признаться, так как тот в подробностях рассказал эпизод убийства Екатерины Кирсановой, добавив: «Ловко ты придумал, что «ходил с лопатой, а не с винтовкой», да, видно, у тебя и лопата метко в голову стреляет». И после очной ставки с Матреной Кирсановой Плывч вынужден был признать, что убил Екатерину. Вызванный из другой области отбывший наказание за измену Родине Удалов изобличил Плывча в убийстве Шаповалова, старосты деревни Володьково. Тот был убит при таких же обстоятельствах, что и староста Малашенков. Но Плывч и дальше от всего отказывался. В большинстве же случаев на очных ставках обвиняемый твердил, что ничего не помнит, но раз свидетель о чем-то говорит, то он не может отрицать такие показания. Относительно конкретной карательной деятельности он признал, что участвовал в убийстве Малашенкова, который был связан с партизанами. «Жандармерия заподозрила его в связи с партизанами, — рассказывал Плывч. — Приказ был доставить его в Новосокольники. По дороге, однако, мы с Киселевым убили Малашенкова». Плывч утверждал, что Малашенков был застрелен ими при попытке к бегству, однако так ли обстояло дело, или был выполнен приказ жандармерии — расстрелять неблагонадежного старосту, — установить не удалось. «Все равно его живым немцы не выпустили бы, да еще и пытали бы», — пытался найти смягчающие обстоятельства Плывч. 24–25 января 1961 года коллегия по уголовным делам Псковского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Новосокольники уголовное дело по обвинению Плывча (он же Плавин). За измену Родине, активную карательную деятельность, убийство советских граждан Плывч был приговорен к 15 годам лишения свободы. Одновременно суд вошел с представлением в Президиум Верховного Совета СССР о лишении Плывча медали «За победу над Германией». Возможно, у читателей возникнет вопрос: почему каратель получил столь мягкий приговор? Здесь необходимо пояснить, что дело расследовалось в 1960 году. А 25 декабря 1958 года Верховным Советом СССР был принят закон «Об уголовной ответственности за государственные преступления». В связи с его изданием были отменены статьи 58.1а и 58.1б УК РСФСР 1926 года, по которым ранее квалифицировали действия изменников Родины и где за эти преступления была прописана высшая мера наказания. С конца 1958 года и до 1 января 1961 года, то есть до вступления в действие УК РСФСР 1960 года, обвинение таким преступникам предъявлялось по статье 1 закона СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления», в которой предусматривалось наказание за измену Родине. По этой статье привлекался и каратель Плывч. Кроме того, на расследование и рассмотрение в судах дел данной категории накладывали отпечаток положения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». По этому указу изменникам Родины, помогавшим немецко-фашистским захватчикам, могли вменяться в вину только факты их участия в убийствах и истязаниях советских граждан, а остальная предательская деятельность подпадала под амнистию. Дата публикации: 10 июля 2017
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~kQD9W
|
Последние публикации
Выбор читателей
|