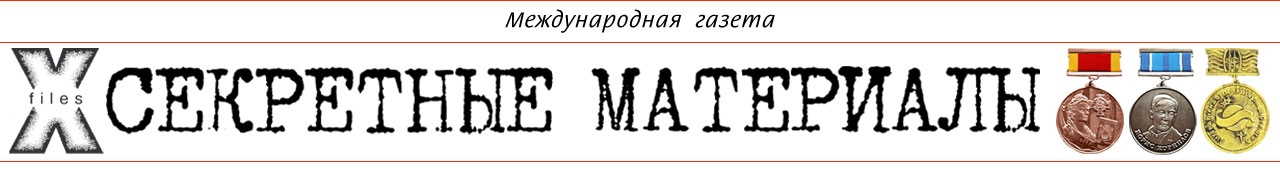|
КРИМИНАЛ
Хулиганы старого Питера
Алексей Щербаков
журналист
Санкт-Петербург
59

Балаганы в Александровском саду
Все, что связано с дореволюционной историей, сегодня модно изображать в умильно-розовых тонах. Так, принято считать, что в старом Санкт-Петербурге царили тишь да гладь, что в криминальном отношении это был на удивление спокойный город. Между тем, как следует из полицейских отчетов и газет того времени, дело обстояло далеко не столь радужно. Спокойно было лишь в центральной, фешенебельной части города, где чуть ли не на каждом перекрестке торчали внушительные фигуры городовых. На окраинах же начиналась совсем иная жизнь. С наступлением темноты ходить по тамошним улицам становилось опасно — имелся реальный шанс потерять кошелек, здоровье или даже жизнь… «Чубчик, чубчик кучерявый» Вот полицейская статистика за 1900 год. В окружном суде в убийстве обвинялось 227 человек, в разбое — 427, в нанесении телесных повреждений — 1 171, в изнасиловании — 182. В пересчете на душу населения это больше, чем даже в нынешние беспредельные времена. Следует также учитывать, что криминалистка находилась тогда в младенческом состоянии, раскрываемость преступлений была весьма низкой. Правда, «чистой» публики это мало касалось. Большинство убийств совершалось за пределами центра. Часто убивали, что называется, просто так, без какого-либо мотива. Все тогдашние окраины поделили между собой молодежные группировки, наводившие страх на всю округу. Так, на Васильевском острове их было две — на линиях и в гавани. (Примечательно, что такое размежевание василеостровской шпаны сохранилось до сегодняшних дней.) Петроградской стороной владели четыре банды. Да и в любом заводском районе существовали подобные объединения. Входили в них в основном молодые неквалифицированные рабочие, подмастерья и безработные. Эти люди, недавно приехавшие из деревни, не получили от города ничего, кроме тяжелого монотонного труда и винной «монопольки». Платили им мало. Квалифицированные рабочие их презирали. Вдобавок перед пролетарской молодежью маячила скорая пятилетняя служба в армии (тогда призывали в 21 год). Неудивительно, что в этой среде процветал культ бесшабашной пьяной веселости — сегодня погуляем, а там хоть трава не расти. Говоря словами Бабеля, неквалифицированные рабочие думали исключительно «об выпить рюмку водки и об дать кому-нибудь по морде». И, как водится, сбивались в агрессивные стаи. Тогдашние хулиганы имели особую моду. Они щеголяли в надраенных хромовых сапогах и красных фуфайках. Непременными атрибутами были чубчик, выбивающийся из-под фуражки с лаковым козырьком, прилипшая к губе папироса и небрежно обмотанный вокруг шеи шарфик. Цвет последнего указывал на принадлежность к той или иной банде. Почти каждый уважающий себя хулиган таскал в кармане нож, кастет или гирьку на цепочке, которые охотно пускал в ход. Как писал один из журналистов, по вечерам хулиганы группами в несколько десятков человек шатались между пивными заведениями, задирая прохожих. Могли ограбить, «залапать» проходящую мимо девицу, украсть, что плохо лежит. Время от времени кого-то сажали, но на его место тут же приходил новый. Битва на Смоленке Когда подобное времяпровождение хулиганам прискучивало, они решались на что-нибудь более масштабное вроде драки район на район. Повод находился всегда. Так, летом 1901 года на Съездовской линии Васильевского острова был зарезан некий Сашка Бык, один из лидеров банды «ждановцев», живущих возле одноименной речки. Человек огромной физической силы, отчаянной смелости, он играл с судьбой, «гуляя» с девушкой с Васильевского. Между тем нравы в те времена были суровые. Даже простое появление хулигана на территории чужой группировки было опасно для жизни. Долгое время Быку удавалось избежать всех опасностей. Но в конце концов парня подкараулили… По хулиганским понятиям, такое дело без отмщения оставить было нельзя. Через пять дней «ждановские» перешли Неву и на берегу реки Смоленки встретились с противником. Произошла массовая драка, изрядно добавившая работы столичным больницам. Несколько человек было убито. Тем не менее полиция отреагировала крайне вяло. Чиновники МВД полагали, что пусть уж лучше молодежь чистит друг другу физиономии, чем бунтует против правительства. Зона свободной охоты Несмотря на весьма натянутые отношения, четыре банды Петербургской стороны придерживались некоторых джентльменских соглашений. К примеру, Александровский парк являлся нейтральной территорией. Там, на месте нынешнего мюзик-холла, располагался Народный дом, а вокруг — карусели, тиры, кинематограф и прочие нехитрые развлечения. В этом парке члены группировок друг друга не трогали. Здесь они предпочитали совместно обижать простых посетителей. Делом чести для хулигана считалось сорвать у проходящей барышни ленты со шляпы и подарить их своей подружке. И это — самая безобидная проделка. В Александровском парке могли избить, ограбить, изнасиловать. Могли ударить ножом в спину или кастетом по голове. Просто так — из куража. Особенно любили хулиганы «сизяков» — гимназистов, прозванных так из-за цвета шинелей. Над ними издевались особенно изощренно. Впрочем, доставалось всем. Интересно, что, по свидетельству журналиста «Петербургского листка», методы у тогдашней шпаны ничем не отличались от нынешних. Очень популярна была просьба закурить. А уж там — слово за слово, и начинался мордобой. Полиция была бессильна — если городовой пытался вмешаться, били и его. Ловить хулиганов было также бесполезно — они мгновенно скрывались в плохо освещенных окрестных дворах и переулках... Еще одной нейтральной зоной был трактир, расположенный в районе нынешнего «Ленфильма». Его хозяин охотно скупал вещи, деликатно не интересуясь их происхождением. Очень было удобно: ограбил, продал, пропил — и снова на охоту. Ходили слухи, что местный пристав водил с содержателем кабака большую дружбу, а потому не обращал внимания на то, что там творилось. Большая облава Так продолжалось до осени 1902 года. 21 сентября трое пьяных хулиганов зарезали финским ножом солдата Егорова. Поскольку до этого шпана служивых не трогала, событие всколыхнуло весь Петербург. Дело дошло до верхов. В высоких кабинетах по столам загрохотали кулаки. От полиции потребовали в недельный срок навести порядок. Началась массовая зачистка, в которой принимали участие полиция, жандармы и даже армейские части. Солдаты с винтовками наперевес прочесали все закоулки — кабаки, «малины», пустые дачи, на которых любили отсиживаться хулиганы. Арестованные пошли косяком. Было раскрыто множество преступлений. Хулиганов пачками отправили на каторгу. На некоторое время на Петербургской стороне воцарился порядок. В других районах все осталось по-прежнему. Они пошли другим путем Через несколько лет шпана начала выходить из-за решетки. К старому возврата не было — строительство Троицкого моста полностью изменило инфраструктуру. Петроградская сторона стала фешенебельным районом. Кое-кто из хулиганов взялся за ум. Некоторые пополнили ряды профессиональных уголовников или подались в погромщики-черносотенцы. Но были и те, кто пошел другим путем. Так, несколько уркаганов познакомились в кабаке со спившимся студентом, который в прошлом имел некоторое отношение к революционному движению. Из застольных бесед они поняли: грабеж в той среде называется экспроприацией, а налетчики — борцами за народное счастье. Они сколотили так называемую Организацию максималистов Петроградской стороны. Эта банда не имела никакого отношения к революционным партиям, однако лихо занималась «экспроприацией». Газеты писали, что «наша столица становится вторым Чикаго». Можно вспомнить ограбление кассы Горного института в 1907 году — со стрельбой и несколькими трупами. В Питере такое было в диковинку. Понятно, что «экспроприированные» деньги шли отнюдь не на борьбу за народное дело. Когда налетчиков повязали, они не смогли даже членораздельно изложить свои политические взгляды. По той простой причине, что революционная теория сводилась у них к лозунгу «грабь награбленное». Это была самая известная, но далеко не единственная «революционная» организация. Многие подались в анархисты, у которых грань между политической борьбой и уголовщиной отсутствовала по определению. Те из них, кому удалось избежать петли и выйти из «царских застенков», после революции носили имя политкаторжан и пользовались почетом и уважением. До тех пор, пока товарищ Сталин снова не отправил их на северо-восток… Звездный час для питерского хулиганья настал в 1917 году, когда на волне революции они смогли удовлетворить свои разрушительные наклонности. С окраин шпана вышла на центральные улицы. Впрочем, это уже совсем другая история… Дата публикации: 10 февраля 2007
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~JR27f
|
Последние публикации
Выбор читателей
|