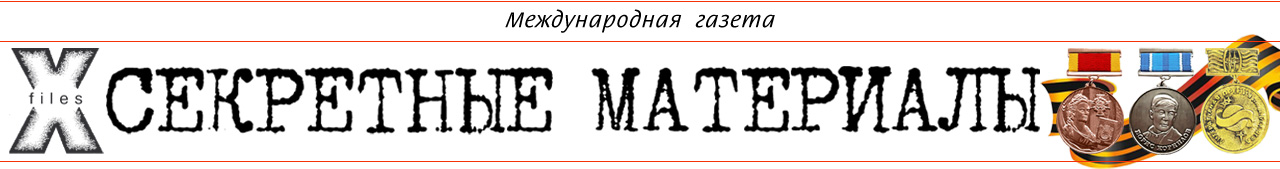|
КРИМИНАЛ
«СМ-Украина»
Крестовые дети
Ирина Хроль
историк
Украина
8258

Гравюра Гюстава Доре
В пасхальную весну 1212 года около 100 тысяч детей от 6 и до 15 лет покинули свои дома в Германии и Франции и ушли в благочестивый поход за Гробом Господним. Это религиозно-отроческое движение не вошло в общее число Крестовых походов, и средневековых хронистов не тронуло настолько, чтобы поставить его в ряд значимых вех истории. Факты таковы, что французский пастушок и немецкий подросток-«пивовар» до того взбудоражили своих соотечественников, что повели за собой тысячи детей и даже взрослых различных сословий. И случилось все не «вдруг». К тому времени, когда детские руки подхватили знамя духовного подвига за веру, средневековая Европа уже «созрела», подстегнутая идеями Урбана II о помощи христианству на Востоке и освобождении «Гроба Господня», пережила четыре крестовых похода, их неудачи и сомнительные завоевания. Но к весне описываемых событий пыл воителей подостыл: крестовый бумеранг вернулся в Европу разрухой и опустошением, расхождениями между мирским и религиозным воззрениями, и ни бароны-рыцари, ни простой люд уже не рвались на чужбину. Но папская курия Иннокентия III яростно добивалась продолжения крестовой осады Востока – именно в ее канцелярии вызревала идея фикс: «Господь не дал победы сильным за грехи их!..». – А кому же тогда? – «…но дарует ее слабым и безгрешным!». – А ведь безгрешны только дети… ФРАНЦИЯ: СТЕФАН И ЗАВЕТ ПИЛИГРИМА На этой волне появился во Франции юный «проповедник» Стефан – в деревушке Клуа что под Орлеаном, в обычной крестьянской семье. На час «праведного прозрения» исполнилось Стефану лет 11-12, и ходил будущий «пророк» в сельских пастухах. Но, к гордости родителей, отличался он от сверстников удивительной набожностью: церковные службы и праздники чтил, а особенно – посвященные воинам, сгинувшим за веру. В заветных грезах своих рвался пастушок мстить за православные загубленные души... Тут и «снизошло» к нему провидение: как-то поутру (в тот самый май 1212 года) по дороге на пастбище повстречал Стефан пилигрима, возвращавшегося из Палестины. Монах попросил подаяния, а в благодарность за кусок из рук мальчишки понарассказал ему о чудесах «святой земли», о подвигах и муках ее освободителей. Пастушок слушал не дыша, а монах вдруг и заявил, что он, де, и есть – сам Иисус Христос! И велит он Стефану ни много ни мало – возглавить детский крестовый поход за Гробом Господним! Для которого достаточно безгрешности детской и божьего слова из уст непорочных – из них и будет «исходить сила на врага»… И, прощаясь, вручил монах остолбенелому пастушку «священный свиток» – письмо к самому королю Франции. Да тут же, и растворился. Или просто ушел?.. ИТАК, СВЕРШИЛОСЬ! Стефан опрометью бросился в деревню – уж какое теперь пастушество, если сам Всевышний призвал! И дома, захлебываясь от радости, он пересказывал и родителям, и сбежавшимся соседям о своей встрече с «Христом». И свиток показывал – но кто бы его читал, если все неграмотные! Сполна заработав насмешек, угроз и подзатыльников, Стефан уже наутро с котомкой и посохом в руках ушел из села. Отправной точкой для своего подвига он выбрал аббатство св. Дениса в г.Сен-Дени (в 10 км от Парижа). Но уже в попутных селениях и городках опробывал себя в «пророчествах» – и откуда что взялось! Средневековый неграмотный мальчишка буквально околдовывал слушателей бойким пересказом историй от пилигрима, посвящал в чудеса и знамения, «явленные» лично ему. А когда взмахивал «божественным» свитком с «Христовой волей», – заведенные толпы заливались слезами восторга, готовые тут же и куда угодно бежать за «праведным отроком»! Так что в Сен-Дени давно ждущий чуда пастушок явился заправским оратором-пророком. В нем «проснулись» даже «признаки святости»: пастушок ставит на ноги хромых, слепым дарует свет божий... а как от «чудо-ровесника» сходит с ума ребячье обожание! Дети тайком от взрослых слагают страшной силы клятвы на верность Стефану и собираются в войско его. И гордятся: это их, детей, избрал Господь орудием и знаменем своим в укор грешным и алчным взрослым!.. ЗАГОВОР ВЗРОСЛЫХ Папа Иннокентий III со своей курией «курирует» религиозный порыв детворы, назревающий в масштабах невиданных! С папского же соизволения побрели по дорогам Франции 12-10-летние, и даже 8-летние «пророки-посланцы от Стефана» – ничего, что многие и в глаза не видели того, кто «послал» их… Важно, что и эти начали «творить чудеса» да «врачевать» всех и вся! Созывая сверстников в отряды Стефановы... Поддались на эйфорию босоногих холопов-сверстников и отпрыски знатных семей. Ведь, рыцари-крестоносцы – это их деды-отцы и старшие братья, прошли Палестину, а кто-то и не вернулся. И значит их долг – отомстить неверным и продолжить дело отцов. Потому юные бароны побежали из скучных родительских замков в босоногую крестовую орду, с готовностью подчиняясь оборванцу-«пророку». Пополняли крестовую армию и девчонки – «страдающие» о «святой земле»: безопасности и удобства ради, переодевались в мальчишечью одежку… Благосклонно принял инициативу детворы и Филипп II Август, король Франции – организация крестового похода, пусть и детского, могла бы поспособствовать желанному для короля союзу с Папой в войне с Англией. Но, вот бегство детей из домов перерастает в массовое, а это уже проблема. И уже Папа – «на всякий случай» – обращается к ученым Парижского университета, и те категоричны: «детей необходимо остановить немедленно! И даже силой, если понадобится!». – Ибо поход сей – «от сатаны». Теперь и король подписывает эдикт, повелевающий детям немедля разойтись по домам! Но что для детворы, – в сравнении с веленьем Господним, – какой-то королевский эдикт?! И даже бароны не посмели разгонять их силой – как бы простолюдье, поддерживавшее движение, не полохнуло ответными бунтами… Массовый психоз уже набрал губительные обороты и сам Филипп II проигнорировал невыполнение собственного эдикта. В ПУТЬ! И «пророк Стефан» объявляет всеобщий сбор в Вандоме. Ребячье воинство разбито на отряды, в каждом – свои командиры, стяги и символика, и даже «униформа»: простые серого цвета рубахи с нашитыми матерчатыми крестами, короткие штаны и большой берет. А кому и эта серая простота не по карману – сгодились повседневные лохмотья и босые ноги, и «бесплатные» шевелюры на головах. Вместе с детьми и подростками под стяг пастушка заспешила городская и деревенская беднота, монахи, юродивые и даже целая армия магдалин, воры и прочий сброд – эти искренне верили… только в доходность детского похода. Правда, в самый пик сумасбродицы отдельные священники осознали опасность в недетской затее детворы. Эти немногие пытались вдолбить малолетним фанатикам, что задуманное ими – «происки дьявола», уговаривали разойтись по домам. Но вера в «пророка» Стефана уже была непререкаемой: дети дрались за клочок одежды «святого», за щепку от его повозки, в бесноватой агонии калечась и затаптывая насмерть младших. А благоразумные монахи попадали в вероотступники с известными в средневековье последствиями. Но многие из них, не сумев остановить беду, сознательно примкнули к отрядам, чтобы в неизбежной погибели быть рядом с обреченными детьми… Наконец «святое воинство» (более 30 тысяч) торжественно «стартовало» (на то время германцы все же перехватили пальму первенства, и уже гибли в Альпах). «Святой Стефан» впереди – величественно восседает в повозке, устланной дорогими коврами, в окружении конных адъютантов из знати… Но идти героями по дорогам своей страны – еще полбеды: соотечественники их и подкармливали, и снабжали необходимым. За месяц пути дети-французы преодолели около 500 км, и в Марсель пришли почти все. Однако, к их ужасному разочарованию, Средиземное море не расступилось перед их «воинством»! Дети шокированы: «не подшутил ли над нами Господь?» и снова и снова несут свои вымученные молитвы к морю, а вечером молятся, чтобы укрепиться в вере. А утром недосчитывались сотен сотоварищей, тайком сбегавших домой... И так – день за днем... Пока не зароптали марсельцы: сколько еще им терпеть ненасытную ораву? В это распутье Господь и снизошел к ним: два марсельских купца Ферреус и Поркус вызвались бескорыстно предоставить детям 7 кораблей и даже провиант! Уж как восторжествовал «святой» Стефан: «Расступиться должно было не море, а сердца человеческие!». Воспрянуло и воинство его. Но вот и корабли есть, а оказалось, что ряды их… слишком поредели. Но малодушных и не жаль - посвободнее будет достойным (корабль того времени вмещал около 700 человек; Марсель покинуло в общей сложности около 5 тысяч детей и 400 священников). И они отплыли, распевая гимны, гордые вниманием горожан, высыпавших на набережную… ГЕРМАНИЯ: ПИВОВАР НИКОЛАС По богомольным путям слух о «Стефане-пророке» докатился до Германии. И здесь подсуетились церковники, поколдовали над жаждущим чуда общественным мнением: ну никак и немцам не пережить глумления над христианством на Востоке, если не впрягутся в детский поход! И тут же свой «святой» отрок (не отставать же от каких-то французов!) «явился» в Германии в деревушке под Кельном, 10-12-лет от роду, по имени Николас (хотя и проскользнуло во «временное сито» свидетельство монаха-летописца: а «святостью»-то Николас обязан лишь собственному родителю – «пройдошливому дурню», зарабатывавшем на сыне…). И вот уже немец Николас под водительством родителя спешит в Кельн (как и французский Сен-Дени – город многотысячного паломничества, собиравший и детей). В Кельне Николас провозглашает себя «избранником божьим», и уже по сценарию «от Стефана» раскручивается германский вариант крестовой вербовки: с россказнями о явлении «креста в облаках» и голоса Всевышнего из поднебесья, «протрубившего детям безгрешным походный сбор». И в Германии толпы желали верить в новоявленного «пророка», и «исцелялись» от него. И с папертей церковных «пророк-пивовар» лихо бередил самолюбие толп, призывая не отстать от французов, не упустить славу первозавоевателей «святой земли». И не упустили. Призывы «пророка» и тут подхватили дети, и толпами побежали из домов в «святое войско», и уже германские дороги пылили под ребячьими пятками, и рыдали немцы-родители, провожая в безвестность своих чад неразумных… Правда, в отличие от французов, германский император Фридрих II и слышать не пожелал о детском «вдохновении», и категорически запретил отрокам дурью маяться. Тогда юные «вояки» ограничились кельнской округой (что, как утверждают хроники, и обернулось для кельнцев наибольшей трагедией: религиозный психоз вырвал из семейств прирейнской Германии не 1-2 детей (как во Франции), а почти всех. Ушли даже 6-7-летки – этим и досталось скорее всех: «уже на второй день похода младшие просились старшим на закорки, а на 3-4-й неделе начали болеть и умирать». Посчастливилось тем, кого «войско» бросало в придорожных селениях, но и они домой не вернулись – не зная обратной дороги…). Так что заспешила германская детвора: как бы император, бароны да родители впрямь не взялись бы за палки. А тут еще вот-вот опередят французы! И в конце июня около 20 тысяч детей (а по другим данным – все 40!) под знаменами Николаса выступили из Кельна. За городом колонну разбили на две: первую повел Николас, вторую – доверенный «пророка» (имя не сохранилось). Обеим колоннам путь в Италию преграждали Альпийские горы, но свернуть на равнину к Марселю – значило бы встретиться с колонной французов и попрощаться с первенством… ХУДШЕЕ – ВПЕРЕДИ И они ушли, растянувшись на многие километры по полудиким землям, где селения встречались все реже, через леса, кишащим диким зверьем и не менее дикими разбойниками. И все меньше эйфории, и все непреодолимей усталость, все чаще юных воинов Христа встречают недоброжелательные селения: им отказывают не только в подаянии, но даже и в ночлеге на улицах, и гонят прочь от городских ворот. Худеют котомки, и вот уже воровство друг у друга становится способом выживания. Они гибнут от голода, жары и жажды, десятками тонут в реках. И кто-то первый, наигравшись в «святое воинство», тайком поворачивал назад. Так что к подножию Альп (в районе озера Леман) дошла лишь половина «воинства» германцев. Многие впервые увидели горы, а им, – голодным и полураздетым, уже измученным непосильным переходом, – предстояло перейти эти обледенелые скалы в вечных снегах, с жуткими пропастями, глотавшими обессиленных путников. Ночью дети сбивались в стайки, согревая друг друга в альпийском снегу, а утром продолжали путь уже не все, и не было сил умерших привалить камнями... «ГЕРМАНСКИЕ ЗМЕЕНЫШИ» Они перешли Альпы ценой жизни каждого третьего своего товарища и по-детски радовались, что худшее уже позади… Но Италия открытой ненавистью встретила «германских змеенышей» – это же их отцы-крестоносцы разоряли итальянские земли и грабили города, оскверняли святыни, насиловали и убивали… И теперь отпрысков обидчиков итальянцы не желали видеть в своих городах, и – никаких им подаяний!.. Так что в Геную, конечный пункт назначения, дошли от силы 3-4 тысячи (из 40!) крестоносцев, перебиваясь воровством по придорожным селам и садам. Известно, что делегация детей-германцев посетила хозяев Генуи и принял их сам дож и члены сената. И эти взрослые очень обрадовались, что свалившаяся на их голову орава не клянчила хлеба и кораблей – им только бы переночевать на городских улицах и площадях. Позволили. И даже – на целую неделю. Но зароптали горожане: а не с коварным ли замыслом от своего императора заявились в Геную малолетние германцы? – Тут и властелины Генуи прозрели: недели много – завтра же вон из города! 25 августа 1212 года дети вышли к генуэзской набережной. Позади два месяца и тысяча километров мук и смертей, и наконец, – всего-то за морским горизонтом! – «святая земля». А как к этому горизонту добираться – не их забота: море с божьим провидением и как обещано, само расступится и пропустит их к заветной цели! Но море этого не знало и осталось глухо к детским молитвам. Истек срок пребывания «воинства» в городе – куда дальше? Согласно хроникам, несколько сот подростков, настрадавшись и разуверившись, согласились остаться в Генуе: простолюдинов разобрали в услужение, «крестоносцев» из знати усыновили именитые семейства. Но остальные решаются идти дальше, убеждая друг друга: Господь не мог их обмануть! Они просто не там упрашивали море, и нужно искать другой берег! А для многих страх перед Альпами оказался сильнее безвестности и мук впереди. И они ушли на юго-восток стайками жалких бродяжек, измученные и безнадежно голодные. С горем пополам добрались до Пизы, но море и тут их не услышало. Зато жители Пизы оказались терпимее (и только из-за давнего соперничества с генуэзцами): не только подкормили «воинство», но и снарядили два корабля, на которых часть детей отправили в Палестину, чтобы те исчезли бесследно. А несколько сотен тех, кому «не посчастливилось» попасть на корабли, только осенью добрались до Рима. И даже встретились с Папой Иннокентием III – тот похвалил «героев христовых», по-отцовски и пожурил, и строжайше наказал… домой возвращаться. Но взял с детворы клятву, что «придя в совершенный возраст», они завершат свой крестовый поход. Не удосужившись поинтересоваться: каким образом измученным детям и без гроша в кармане «возвращаться»?.. Только через годы скитаний до Германии дошли единицы... ВТОРАЯ КОЛОННА НИКОЛОСА Вторая колонна детей-германцев прошла те же трагические версты и не менее губительный переход через Альпы… И перед ними море не расступилось. Лишь несколько тысяч детей дошли до юга Италии, где также выслушали наказ Папы поворачивать домой. Но дети тайком уходят в глубь Италии, в Бриндизи, чтобы оттуда уплыть-таки в Палестину. Но в Бриндизи с ними еще меньше морочились: девочек горожане расхватали в матросские притоны, мальчишек – в работники. Воспрепятствовал разбору детей городской архиепископ: собрал оставшихся «вояк» и своею протекцией, и средствами усадил на несколько захудалых посудин, и отправил «воевать Палестину». А суденышки затонули просто в акватории Бриндизи. Вместе с пассажирами. СПУСТЯ 20 ЛЕТ Взрослые еще в двух походах прогулялись до «святой земли» и наконец отвоевали Иерусалим. Но почти о 100 тысячах своих детей, бесследно сгинувших, Европа к тому времени уже не вспоминала… И только в 1230 году поползли слухи о некоем объявившемся монахе, сопровождавшем детей-французов на кораблях, вышедших из Марсельского порта. Из рассказов монаха и узнала Европа как у берегов Сардинии ужасная буря обрушилась на корабли и понесла их к острову святого Петра. Как дети задыхались в переполненных трюмах и кричали от ужаса, а тех, кому «повезло» с местом на палубе, – десятками смывало за борт… Первые пять кораблей миновали рифы, а два неслись просто на скалы, и скоро истошные крики детей захлебнулись в реве волн… Но не лучшая судьба поджидала и пассажиров уцелевших пяти кораблей. Их, истрепанных бурей, прибило в алжирскую гавань, и оказалось, что это и был порт назначения маленьких крестоносцев. А благоверные Ферреус и Поркус потому и «распахнули сердца», что компенсацией себе определили пять тысяч детских жизней, проданных в рабство. Подлецы знали: расстояния и разобщенность христианского и мусульманского миров – куда как надежное сокрытие их делишек. Но дети!.. И представить страшно весь ужас, который пережили они, когда осознали случившееся! Часть несчастных на алжирских базарах раскупили богатые мусульмане – для работ на полях, в наложницы и наложники. Остальных переправили на рынки Александрии и Багдада. И этим последним «посчастливилось» пройти мимо стен Иерусалима, по улочкам Назарета и Галилеи... В цепях, с веревками на шее. А потом умирать в вожделенной земле от голода, непосильной работы, побоев и болезней… Из рабства ни один ребенок не вернулся. От монаха же европейцы узнали и о 700 детях-крестоносцах, которые все еще томятся в каирской неволе. Но Европа, еще недавно так любившая своих кумиров, на выручку им не бросилась… А ЧТО ЖЕ «СВЯТЫЕ ПРОРОКИ»? Стефан «исчез» из поля зрения уже в Марселе: посадил свои отряды на корабли, прокричал напутственные проповеди на дорожку, да и… «Пророчества» Николаса стихли в Генуе, но и в Германию он не возвратился (узнал, очевидно, как в Кельне горожане растерзали его папашу, прослышав о гибели детей). Третий, безымянный вожак второй колонны Николаса так и «не проявился». Попутчиков «святого воинства», 400 монахов и священников в Египте выкупил султан Сафадин и засадил в свою библиотеку за переводы письмен и книг с латыни на арабский. Рабы в сутанах преподавали придворным султана европейскую премудрость и жили в каирском дворце сытно, беззаботней даже, чем дома, в Европе. Соблюдали единственный запрет своего «рабства» – не покидать пределов Каира. Узнав о гибели детей у берегов Сардинии, Папа Григорий IX велел возвести им памятник на острове Святого Петра – там после кораблекрушения рыбаки собрали и захоронили сотни детских трупов. Спустя 20 лет детей перезахоронили в братской могиле, а позже на том месте воздвигли церковь Новых Непорочных Младенцев. В храме, на три столетия ставшем местом паломничества, правили богослужения 12 монахов. Но к началу XVIII века данная церковь утратила свое значение, опустела и разрушилась. В 1737 г. на острове Святого Петра осели беглецы из мусульманского плена, они же заложили город (Карлофорте), и среди новых строений затерялись руины церкви… В Европе же «святой подвиг» почти 100 тысяч сгинувших детей-крестоносцев современники-хронисты «увековечили» в нескольких летописных абзацах, а в народе не весть откуда появилась эпиграммка:
«На берег дурацкий На том и завершилась одна из самых бестолковых и жутких трагедий Европы. Дата публикации: 4 декабря 2019
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~6bJn2
|
Последние публикации
Выбор читателей
|