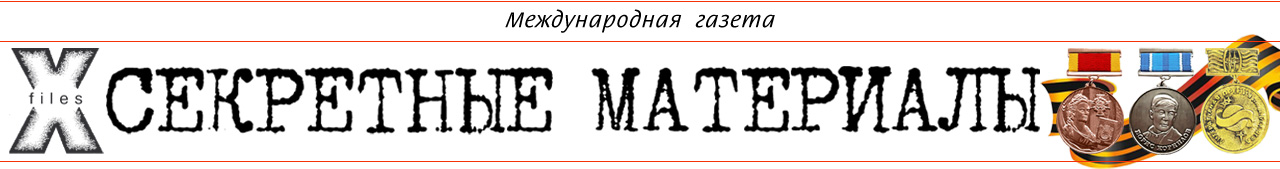|
ЖЗЛ
«Секретные материалы 20 века» №19(405), 2014
Белая мгла
Валерий Колодяжный
журналист
Санкт-Петербург
1782
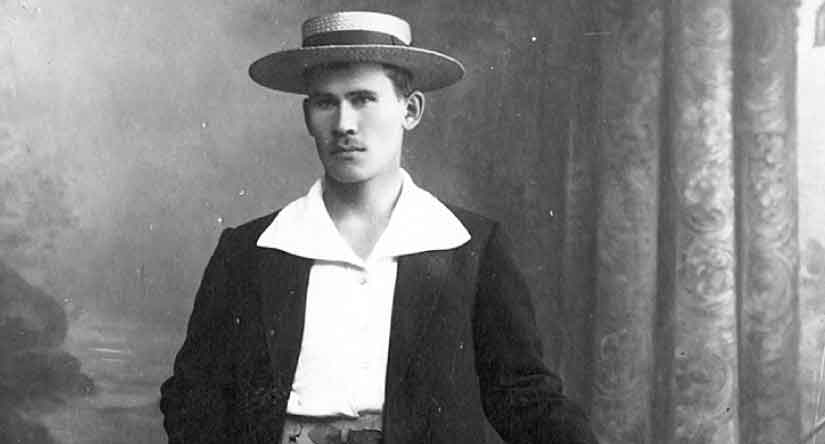
Павел Разов (дореволюционное фото)
Павел Разов, выходец из грязовецких крестьян, воевал в Первую мировую войну, продолжил службу в белой армии и уехал в эмиграцию. Чужбина, некогда поглотившая тысячи наших соотечественников, всегда неласкова, а в отношении Разова это проявилось с особой силой. Очутившись в изгнании, Павел искал счастья и в Европе, и в далекой Аргентине. Наверное, в его ситуации такое решение было правильным: после мировой бойни европейские страны неимоверными усилиями налаживали жизнь. Эти трудности в полной мере испытал на себе Павел Разов в Бельгии, где он обосновался после возвращения из Южной Америки. Причем жить в Европе для него было важно с психологической точки зрения: гораздо ближе были родная земля и люди, оставшиеся в России. С ними проще, нежели прежде, можно было поддерживать переписку. И Павел писал старшему брату Александру, который в начале 1920-х с Вологодчины перебрался в Ленинград. Письма Павла, пришедшие в Советский Союз в 1927–1928-м, сохранились. Фигура Павла Евгеньевича Разова как белогвардейца может разочаровать. На протяжении десятилетий средства казенной пропаганды преподносили два основных типа белых воинов. Первый (вплоть до 1950-х) – тип сугубо отрицательный. Закоренелый враг, застеночный палач, форма с иголочки, при перчатках, перетянутый ремнями френч с золотыми погонами, пенсне или монокль, а в особо тяжких случаях глаз перехвачен черным, регулярные ресторации с выпивкой и красавицами-вамп, выраженная склонность к садизму, шаг подчеркнуто строевой, до блеска начищенные сапоги, отдание, даже без надобности, воинской чести, лицо холеное с выражением надменным, ровный пробор, искривленные губы, в них – папироска, горделивое вздергивание головы и прочие признаки враждебности коренным интересам рабочего класса. Надо заметить, что при некотором утрировании образа подобные офицеры имелись, хотя большинство их служило не в армии, а в гвардии – привилегированном виде дореволюционных вооруженных сил. Второй (с начала 1960-х) – тип осторожно-положительный. Приятная размягченность при некотором, на словах, сочувствии делу пролетариата, запутавшийся соотечественник, не сумевший оценить пронзительной красоты революции, благородные манеры и тонкое воспитание, пианист и меломан, культурный и прекрасно образованный, а иногда просто-таки кабинетный книгочей, нервный, трепетный и страстный – прямо какой-то интеллигент, а не воин – и вместе с тем симпатичный и обаятельный. Определенные основания для последней трактовки тоже имелись. К примеру, на форзаце 11-го тома сочинений Достоевского сохранилась надпись: «Поручикъ Мининъ, 9.VIII.1917». Подумать только: офицер, а читал «Дневник писателя»! И все же в массе своей армейские офицеры, составившие костяк белой армии, были народ простой, незатейливый – вчерашние веселые юнкера, записные, по выражению тех лет, «тоняги» (от «держать тон») и «пистолеты» (от постоянной заряженности на поступки), а попросту молодые балбесы и бесшабашные повесы. Они пили изрядно вина, позвякивали шпорами, лихо рубили с плеча, расписывали пульку, а другую пульку мастерски вгоняли в яблочко мишени, волочились за гарнизонными львицами, часто употребляли модное тогда словцо «адски» («адски влюбился», «адски проигрался») и всячески наслаждались жизнью, но, согласно нормам присяги, в любой момент готовы были отдать эту чудесную жизнь во имя трона и Отечества. Армия – не гвардия или флот, куда принимались лишь дворянские сыновья, а потому в армейских полках собирались люди разных сословий. Там проще жилось и служилось и подчас более демократичными, чем где-либо, были служебные отношения, хотя и в меньшей степени открывались перспективы роста в чине. Такие офицеры составляли к Первой мировой войне кадровую основу нашей армии. Таков был и Павел Разов, и это видно из его писем, которые мы с дозволения и по желанию ныне здравствующих родственников воспроизводим – причем с орфографическими особенностями оригинала.
Marchienne au Pont. Начало мировой войны было для русской стороны столь удачным, что если бы не рассогласованность в Восточной Пруссии, то наши войска имели все шансы уже в сентябре войти в Берлин. Но так не случилось. Патриотический же подъем первых недель войны породил средь офицерства браваду и ухарство, обернувшиеся бесполезными гибелями. Потери в командном составе армии на первом этапе войны были поистине огромными, но еще большими они стали в гвардии, чьи офицеры – недавние столичные щеголи и придворные красавцы – вообще ставили свою жизнь в копейку и едва не с радостью подставляли лоб под германские пули. ВЗВЕЙТЕСЬ ОРЛАМИ, СОКОЛЫ, ОРЛАМИ… Кадровый голод стал ощущаться в армии уже с 1915 года, и потому было решено готовить офицеров военного времени из способных вольноопределяющихся, унтер-офицеров и солдат. Восполняя убыль, в званиях прапорщиков и подпрапорщиков эти офицеры новой формации удачно вписались во фронтовую действительность. Несуетливые, опытные, обстрелянные, без офицерской фанаберии и дворянской спеси, они знали войну и окопный быт, пользовались авторитетом среди солдат, легко находили общий язык с рядовыми бойцами, умели ободрить новобранца, ведали толк в обозно-вещевом хозяйстве и в сложных ситуациях неизменно оказывались на высоте положения. С другой стороны, свободные от кастовых, сугубо офицерских норм и предубеждений, такие командиры легче поддавались пацифистской и антигосударственной пропаганде, проводимой на фронтах отдельными политическими партиями. К числу прапорщиков, вышедших из рядовых, по всей видимости, относился и Павел Разов. Такими были русские офицеры: белая кость да голубая кровь, а рядом выходцы из крестьянства, купечества и духовенства. Гражданская война разбросала их по обе стороны фронта, а когда настал год 1920-й, тех, кто очутился в белом стане – всех, без разбору: и тонкопалых аристократов, и увитых аксельбантами вышколенных штабных «моментов», и шармеров, и жуиров, и бонвиванов, и адских тоняг-пистолетов, и незатейливых представителей простого люда – безжалостно зашвырнула на чужбину, где им довелось хлебнуть горюшка. И вот таким, немыслимым прежде, образом сбылась вековая мечта отечественных мыслителей: и либералов, и державников, и народников, и почвенников, и западников, и славянофилов! В бельгийских копях, на аргентинских бойнях и плантациях Боливии слился наконец воедино русский народ. Плечом к плечу, с киркой и мачете в руках трудились на чужие страны и высокоблагородные отпрыски, и простые рабочие с крестьянами вроде Павла Разова. Но случилось это не под родным небом, а в тяжком изгнании.
4го февраля 1928 г. Как видно из писем, к концу 1920-х годов Разов, даже живя за границей, перешел на советское правописание. И тем не менее у него нет-нет да и прорывается прежняя, дореволюционная орфография: тамъ, Павелъ, Iоанн, пансiон, малаго (малого), разстояние, которыя... Вероятно, в Советском Союзе переход на новые правила проходил быстрей и проще, нежели в отрыве от родины, тем более что в России писать по-старому было небезопасно: помимо прочего, этому придавалось значение политическое. Кроме того, обращает на себя внимание заметное число орфографических погрешностей в письмах Павла – и тут причина кроется, наверное, в издержках школьного образования. Но не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что уже порядка восьми лет Павел Разов жил в чужой языковой среде и в течение этого времени разговаривал и писал по-испански, по-французски, что к концу двадцатых годов не могло не сказываться на качестве родного русского языка – качестве, которое мы и созерцаем, читая старые письма.
9го февраля 1928 г. Судя по письмам, Александр в меру сил поддерживал своего брата и, помимо почтовых марок, высылал ему в конверте небольшие деньги, по пять долларов в письме. Это немало, ибо один доллар по тогдашнему курсу равнялся примерно пятидесяти бельгийским франкам, так что для Павла данная сумма – пять долларов! – почти равнялась его долгу. А для брата? Как могли квалифицироваться его действия? Для Александра Разова за такую отправку была уготована подсудная статья. В 1926 году был введен в действие новый Уголовный кодекс РСФСР. Не то чтоб испытать на себе его действие – читать статьи этого закона тяжело, даже сегодня пробирает озноб, такой жестокостью к собственному народу пронизан он. Достаточно сказать, что данный кодекс предусматривал уголовную ответственность членов семьи «изменника» даже в том случае (ст. 58-1в), если те не знали о готовящемся или совершенном преступлении родственника (а уж для знавших домочадцев предусматривалась целая гроздь нешуточных статей). А для нарушителей правил валютных операций (ст. 59-12) декларировала «лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией всего или части имущества». К тому же именно в конце 1920-х в стране развернулась кампания по изъятию у населения любых валютных средств и ценностей – к месту вспомнить булгаковское «Сдавайте валюту!». Вспомним все это и подумаем, чем всякий раз рисковал советский гражданин Александр Разов, вкладывая в конверт скромную купюру. Что же до Павла, то он и тем более являлся для Страны Советов законченным преступником. Заглянем в статью 58-13: «Активные действия или активная борьба против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период Гражданской войны, влекут за собою высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и лишением...» и пр. Уж куда активнее – «в период Гражданской войны» воевать с оружием в руках. Так, едва не вся белая эмиграция 1920-х – 1960-х, вплоть до отмены этого кодекса, ходила, что называется, «под вышкой», и то, что не расстрелянными (до поры) белогвардейцами в первые годы существования был наполнен Соловецкий монастырь, свидетельствует лишь о временной гуманности «рабочего класса и революционного движения». К тому же, заметим, данной статьей создавался прецедент обратной силы: наказания предусматривались для людей, совершавших «преступления» (участие в Гражданской войне) задолго до введения кодекса в действие. А на случай возвращения для Павла Разова приготовлены были еще и такие статьи, как расстрельная 58-1а «Бегство за границу» и 84-я «Выезд за границу… без установленного паспорта» (заключение в лагерь до трех лет; после того как дважды расстреляют). Знал ли об этом Павел? Возможно… А Александр? Знал наверняка. Он же, в конце концов, не слепой и не глухой, он видел и слышал, что творится вокруг.
21го Марта 1928 г. Послереволюционная русская эмиграция представляла собой картину пеструю и противоречивую. По сведениям Департамента полиции, на конец 1916 года в России насчитывалось семнадцать политических партий. Члены шестнадцати из них к началу 1920-х годов теми или иными путями оказались за пределами отчизны. На чужбину выехали монархисты и анархисты, «кадеты» (конституционные демократы, или Партия народной свободы) и октябристы, члены национальных и даже революционных социал-демократических (меньшевики) течений. Не своей волей очутившись за рубежом, каждый из этих политических банкротов продолжал тем не менее отстаивать прежние, оказавшиеся столь несостоятельными взгляды, ссорясь и жарко полемизируя, пропагандировал именно свои «перспективы» дальнейшего, после излечения от коммунизма, развития Родины. Еще в разгар Гражданской войны, когда не было ясно, кто кого, на пик популярности взошли так называемые «непредрешенцы» – сторонники того, чтобы сам русский народ без участия внешних сил и политических партий, когда пробьет час, выбрал форму государственного правления. Но наступили годы двадцатые, война закончилась, и новые московские власти давно уже, оказывается, все решили на несколько десятилетий вперед. Какое уж тут «непредрешенство»! Как ни ряди, но старые идеи, показавшие свою непригодность, более не подходили. Требовалось придумать нечто новое. Поначалу что-то все никак не придумывалось, но постепенно в эмигрантской общественности, и прежде всего в среде молодого поколения, все большее сочувствие стала приобретать теория евразийства. Данное направление возникло по мере взросления тех эмигрантских детей, кто в силу лет плохо помнил Россию, мало верил в возможность перемен и кому большевистская власть казалась законной. Зародившись в молодежных кругах, эта теория, однако, быстро распространилась и среди зрелого поколения соотечественников: она создавала видимость хоть какого-то ориентира, объясняла и наделяла смыслом пребывание русских на чужбине. Суть данного мировоззрения сводилась к следующему. Россия – не Восток и не Запад, но по своему географическому положению наделена высшей миссией руководить и Азией, и Европой. Для такого руководства потребна, конечно, крепкая централизованная власть, твердое начало в управлении, каковое в текущих условиях могли выполнить только большевики. При этом материалистическое мировоззрение, краеугольный камень марксистской идеологии, евразийцами мягко отклонялось, а духовной основой (при власти коммунистов!) должно было, возродившись, стать историческое русское православие. Дальше – еще чище. Формой будущего государственного устройства евразийцы уверенно называли монархию – и это при сохранении советской системы управления страной! Самодержавие плюс советы депутатов, государь император плюс наркоматы и фабзавкомы! Эта идейная мешанина всерьез обсуждалась на полосах евразийских печатных органов «На путях» и «Поход к Востоку», где само название «Поход…» подразумевало готовность евразийской эмиграции к добровольному возвращению на родину и участию в совместном с советским руководством труде по восстановлению разрушенного народного хозяйства – правда, не спросив у большевиков их намерений поделиться властью и полномочиями. Зато перспективы «участия в труде» на благо Родины открывались действительно бескрайние: как раз намечались великие каналы, стройки, лесоповалы, архитребовались рабочие руки. И на зауральской делянке под аккомпанемент лучковой пилы и треск падающих вековых стволов все это евразийство, столь увлекательное в салонах Парижа и Лондона, скоренько приказало бы долго жить. Это не досужие домыслы, так и случилось. Скажем, десять лет лагерей вкусил, «вернувшись на родину», такую милую и заманчивую из Европы, один из евразийских вождей Петр Савицкий и, полностью отбыв срок, с трудом унес ноги на ненавистный прежде Запад. По сути же путаная теория евразийства была со стороны ее адептов не чем иным, как попыткой соглашательства, примирения с непримиримым врагом. Она выдавала хаос и разброд мысли, растерянность и неспособность значительной части эмигрантской общественности трезво и разумно оценить как свое положение, так и то, по какому пути не собирается, а уже вовсю идет их бывшая отчизна. Однако поклоны евразийцев красному Востоку и особенно их стремление к возвращению были с пониманием встречены и правильно истолкованы в России, в ее соглядатайствующих службах, которые ловко разыграли карту евразийства и быстро наполнили новое движение своими агентами. Правда, примиренческий настрой молодого поколения поддерживался далеко не всеми эмигрантами, часть которых была людьми высоких, а зачастую и выдающихся способностей и ума. В русской зарубежной среде евразийство породило серьезный раскол. Но общая тенденция – все мы русские! все мы братья! да здравствует возвращение домой! – оказывала воздействие на умы, и не исключено, что именно такого рода настроения и именно в период евразийского расцвета прочитываются в письмах Павла Разова. 5го Апреля 1928 г.
Надо полагать, процедура перевода денег за границу была следующей. Александр Разов отправлялся в банк, где оформлял финансовую корреспонденцию в Бельгию. Банк принимал советские денежные знаки, конвертировал их и отправлял адресату. Особенностью данной операции, трудно представимой в последующие времена, было то, что в 1920-е годы советские деньги не являлись, как позднее, «деревянными». С провозглашением нэпа началась регулярная чеканка медных и серебряных денег по старому, «царскому», стандарту 1867 года, вплоть до медяшки полукопеечного номинала. Вскоре был эмитирован и советский червонец, идентичный дореволюционному золотому десятирублевику.
11го Апреля 1928 г.
В силу того что советские «нэповские» деньги имели реальное металлическое обеспечение, они легко пересчитывались в любую валюту мира. Таким образом, отрезок с 1923 по 1929 год был едва ли не единственным после революции периодом, когда в руках людей находились полновесные деньги. Поэтому некоторые категории советских граждан тех лет – кто работал, у кого деньги водились – могли считать себя относительно обеспеченными и даже поддерживать зарубежных родственников.
21го Апреля 1928 г.
Итак, победой Красной армии завершилась Гражданская война. В районах, оставленных белыми, господствовали расстрелы, казни и бессудные убийства. Советская власть показывала, что не намерена миндальничать с врагами. Очередной удар был нанесен по православию. Разорялись монастыри и приходы, разрушались храмы, реквизировалось церковное имущество, арестовывались священники, подвергались казни иерархи. В тюремную камеру и оттуда на скамью подсудимых угодил святейший патриарх Тихон. Шло разбазаривание национального достояния: фонды русских музеев за бесценок продавались за границу или отдавались на откуп международным проходимцам. Осквернялись вековечные святыни, вскрывались и разорялись раки с мощами, сносились памятники историческим личностям России, ликвидировались целые кладбища (наподобие Митрофаньевского, где покоились поэты Аполлон Григорьев и Мей, другие русские знаменитости). Переименовывались города и улицы. Столица перебралась в Москву, флаг, гимн, герб – все другое, новое. Переделывалось историческое русское правописание, упразднялась привычная метрическая система, отменялись дни недели, запрещались новогодние елки и старые добрые праздники, вводилось «декретное» время, изменился календарь, в результате чего даже великий Октябрь праздновался в ноябре.
24го Мая 1928 г.
Нет, жизнь на родной земле была в ту пору совсем не сладкой. Население облагалось «трудгужевой» и доброй дюжиной иных повинностей, слова «Отчизна», «честь», «Родина», «патриот», частое употребление понятия «Россия» вместо РСФСР или СССР трактовались как прямая «белогвардейщина», а учтивость, воспитанность, вежливость, благожелательность, образованность, приятные манеры, ношение очков, галстука или шляпы, грамотная русская речь и, упаси бог, знание других языков свидетельствовали о враждебности классу трудящихся.
Самообложенец, избач, нэпач, фабзаяц, волком (сокращение, и характерное, от «волостной комитет»), едок, спец, враг, юнгштурм, хвостизм, пятидневка, вредитель, партмаксимум, диверсант – истинная терминология 1920-х. Чьи портреты еще вчера под песни носили на площадях, тех вдруг стали поносить последней бранью. В белокаменной столице завелись «оппозиции» – то «новая», то «объединенная», то «правый уклон», то «левый», а в один из дней газеты озадачили читателей сведениями о появлении каких-то «право-левацких уродов».
Напуганные люди недоверчиво озирались на улицах.
Крепли органы насилия и сыска. Недобро прищурились Карацупа с верным Индусом в сторону, где обычно закатывается солнце. Но сколь ни щурься, а беды не миновать: происходят убийства советских полпредов. Каков наш ответ Керзону? Пособники террористов отыскиваются, например, в Академии наук или в Публичной библиотеке. Выясняется, что интеллигенция – прямой агент империализма…
Писал ли об этом брату Александр Разов? Вряд ли, это было тогда очень рискованно. Но все же про то, что с Шурой в это время «что-то неладно», Павел чувствует и тревожится за жизнь близкого человека.
25го Iюля 1928 г.
Нашим белоэмигрантам до того приелся европейский белый хлеб, что они тотчас готовы были перейти на родной черный с квасом, лишь бы вернуться на родину. Только вот наши соотечественники, по всей видимости, не поинтересовались: а готова ли родина потчевать блудных сыновей хлебом, да еще и с квасом? Продовольственное положение советской страны, сколько она существовала, было трудным. И не так-то все у нас просто, товарищи белогвардейцы. Вы там, в своей Европе, пусть за тощими, но зато ежедневными обедами «въ пансiонахъ», похоже, утратили чувство реальности.
Окститесь! Спуститесь же с небес! Припадите к земле! Прислушайтесь, откуда гул копыт… О каком «квасе» речь, если данный напиток испокон веку приготовляется из хлебных излишков, сухарей – в общем, из непотребленного хлеба. А в стране тем временем – натуральный голод, карточно-распределительная система…
Нет, право, как все-таки иногда может опостылеть белый хлеб! И все же, господа офицеры…
16го Августа 1928 г.
Интересно, какая «неприятность» могла возникнуть у Александра Разова? Первое, что приходит на ум, – это проблемы в связи с контактами с братом-эмигрантом. И тут, кажется, все ясно, в том числе и то, что в советских условиях означало поддерживать связь с «врагом», да еще и помогать ему материально. Но не забудем: тогда вовсю шла кампания против инженерно-технических работников. А Шура трудился по бухгалтерской части и худо-бедно являлся «белым воротничком», рабочей интеллигенцией или, как тогда говорили, «спецом». С 1927 года за спецов принимаются засучив рукава, начинаются их увольнения и аресты, проходит «Шахтинское дело», не за горами процесс «Промпартии», направленный против руководителей отечественной промышленности. Так что, скорей всего, тучи над Александром Разовым сгущались в связи с общей обстановкой в стране, а не из-за контактов с братом.
№ 11 15го Октября 1928 г.
«Каторга» – так обозначил свое положение в эмиграции Павел Разов, и не только он один. Мы видим, как сводили счеты с жизнью горемычные наши земляки, выброшенные на чужбину. В рабском труде, нищие, оборванные и разутые, одинокие, никому не нужные, без жилья и угла, держа на учете каждый сантим, а иногда и вовсе «без копейки в кармане», в тяжелейшем моральном угнетении, они влачили существование жалкое. В этом выражались и неспособность эмиграции трезво и мужественно осознать сложившееся положение, и неготовность Европы принять и обогреть неприкаянных русских.
Но почему, собственно, Запад должен был что-то для них готовить? Вы там, в своей вечно бестолковой России, развязали какую-то междоусобную, да еще во время Мировой войны, склоку, бесславно проиграли в ней, бежали сюда, а теперь сетуете на трудные условия жизни у нас? Так горе побежденным! Скажите спасибо, что всех вас, эмигрантов, вообще не выдали Советам.
Правда, в распоряжении этих изгнанников все же имелась определенная вооруженная сила, хотя отчаянно разрозненная и вряд ли всерьез боеспособная. Зато имелась у людей потребность живого общения, желание поделиться мыслями и горестями, опрокинуть хмельную русскую стопку, из бесправного раба ненадолго вновь стать, черт побери, штабс-ротмистром, «па-аслать» от души по матушке всех этих здешних чистоплюев, вспомнить горячие деньки. И потому белыми рыцарями создавались разного рода союзы и объединения: корниловцев, первопоходников, дроздовцев, марковцев, казаков, моряков и проч., – но уже не боевого, а мемориально-исторического свойства, вроде клубов или иных общественных организаций. Выходили русские газеты, где велись дискуссии об Учредительном собрании, возможном или невозможном престолонаследии, теоретические рассуждения о будущем, после падения большевиков, устройстве России.
Правда в том, что спустя шесть десятилетий вопрос о будущем устройстве пришлось решать приобретшему советский опыт российскому народу, без участия забытых к тому времени полемистов двадцатых годов.
Павел Разов относился к той части изгнанников, кто не принимал участия ни в военной, ни в политической жизни эмиграции, не состоял в союзах и братствах, не тратил времени на дискуссии и распри. Задача таких, как он, была зацепиться, временно пристроиться к этой незнакомой среде, как-то перебиться и дождаться того благословенного момента, когда можно будет наконец вернуться домой и под родным небом спокойно зажить прежней жизнью. Как известно теперь, мечтам этих несчастных не суждено было сбыться. Все они, в переносном и прямом смысле, впитались в европейскую почву, а их потомки, за редкими исключениями, выросли гражданами других стран и Россию, русский язык, русскую культуру по большинству уже не знали.
Утро 25 Декабря 1928 г.
На этом переписка братьев обрывается.
Сведениями о дальнейшей судьбе Павла Разова его потомки не располагают. Закончил ли он свою жизнь в Европе, или удалось ему перебраться в Бельгийское Конго? А может, Вторая мировая война губительным катком прокатилась по его судьбе? Неизвестно. Неподдельной тоской по оставленной Отчизне кровоточит каждая строка разовских писем. Из его посланий становится понятнее, какое несчастье случилось с нашей страной в ХХ столетии. Из недавних учебников не совсем понятно, в силу каких причин значительная часть российских рабочих и крестьян на рубеже 1910– 1920-х годов не пожелала поддержать столь, казалось бы, желанную власть народа – и не только не поддержала, но решительно выступила против нее с оружием в руках. С чего бы трудовым людям заодно с лучшими представителями культурного русского слоя бежать от этой новоявленной власти, ждать и желать ее падения и жить надеждой вернуться на любимую землю?
В отличие от последующих эмиграций и нынешней «утечки», белая волна была насквозь проникнута этим стремлением – вернуться на родину. Взрослому российскому поколению нетрудно вспомнить, как уезжали, улетали, сбегали по сходням, прыгали с кораблей в воду, перескакивали через стойку пограничного контроля звезды советского балета, врачи, ученые, артисты, певцы, шахматисты, музыканты, писатели, спортсмены, вплоть до прославленных олимпийских чемпионов, пилоты истребителей, нобелевские лауреаты, матросы, разведчики, поэты, дипломаты и даже, к вящему позору, главный советский представитель в ООН! И ни один из беглецов не ставил перед собою цель когда-либо вернуться назад. А белая эмиграция? Тысячи, тысячи и тысячи – все грезили об одном: как можно скорей возвратиться под милый кров, к своим домам, усадьбам, избам, к родным пажитям и погостам.
Справедливо будет поинтересоваться: стремление белой эмиграции вернуться на родину не ставит ли вопрос – что ж тогда за жизнь была в прежней России, если все как один старые русские, отвергая благоустроенную и хоть неласковую, но, по крайней мере, сытую и безопасную Европу, хотели непременно домой, в разрушенную, но столь горячо любимую Россию? Дата публикации: 1 сентября 2014
Теги: павел разов белая эмиграция
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~bGM2G
|
Последние публикации
Выбор читателей
|