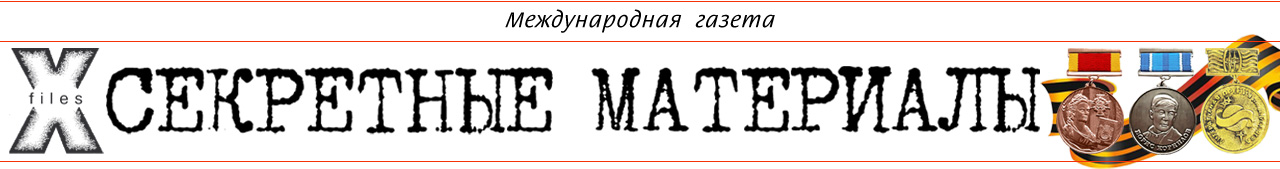|
РОССIЯ
«Дней Александровых прекрасное начало»
Михаил Сафонов
журналист
Санкт-Петербург
436

Вид Михайловского замка в 1800-1801 годах. Гравюра А.И. Даугеля с акварели 1800 года
Двести двадцать лет назад в России много спорили о том, когда начнется XIX век: 31 декабря 1799 года или 1 января 1801-го. Но подлинное российское девятнадцатое столетие началось в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Начало это было не совсем обычным. После Павла 12 марта в Петербурге с самого утра царило оживление. Горожане читали и перечитывали только что отпечатанный манифест. Император Павел скоропостижно скончался от апоплексического удара. На престол вступил великий князь Александр. Новый монарх торжественно обещал царствовать по законам своей бабки Екатерины II. Бурное ликование охватило столицу. Вечером весь город знал о том, что минувшей ночью произошел дворцовый переворот. Заговорщики, во главе которых стояли Петр Пален, военный губернатор столицы, и последний фаворит Екатерины II Платон Зубов вместе со своими братьями Валерианом и Николаем, зверски расправились с Павлом и возвели на престол двадцатитрехлетнего Александра. Новый монарх публично отрекся от деспотических методов отца — таково было общее мнение. Но в светских салонах распространился и другой взгляд на первый манифест Александра: опальный екатерининский фаворит Платон Зубов обрел прежнее влияние. Первые дни Сразу после переворота Александр переехал в Зимний дворец — излюбленную резиденцию Екатерины II. Вскоре Зубов оставил свой особняк на Английской набережной и переселился на Дворцовую. 13 марта на первом вахтпараде Александр «взял князя Зубова под руку и дружески прохаживался с ним». Это не ускользнуло от внимания придворных и иностранных дипломатов. Секретарь австрийского посольства Локателли сообщал в Вену: «Этот господин... в действительности стоит во главе всех дел, как это было в царствование его благодетельницы». Локателли известил свое правительство о предстоящем возвращении в Петербург личного секретаря екатерининского фаворита Альтести, заточенного Павлом в киевскую крепость, что расценивалось как первый шаг к восстановлению в прежнем виде собственной канцелярии Зубова. Поведение Зубова в первые дни после переворота было весьма красноречивым. В то время как при дворе был глубокий траур, он устроил грандиозный обед в ресторане Лиона. Наряду с заговорщиками были приглашены самые влиятельные военные и гражданские лица столицы. Цель заключалась в том, чтобы умиротворить общественное мнение, которое одобряло переворот, но к самому факту цареубийства относилось отрицательно. Заговорщики рассчитывали оправдать расправу над Павлом необходимостью борьбы с деспотизмом. В манифестации екатерининского фаворита ряд современников усмотрел стремление «возвратиться к своевольному и безнравственному образу жизни». Это казалось им основной причиной, толкнувшей Зубовых на переворот. «Отменить, возвратить!..» Дворянство приветствовало переворот, шумно ликовало по поводу свержения Павла, открыто требовало возвращения к «екатерининским вольностям». И для того чтобы укрепиться у власти, необходимо было идти навстречу проявлениям дворянского самосознания. 2 апреля 1801 года Александр издал манифесты о восстановлении Жалованных грамот дворянству и городам, нарушенных его отцом фундаментальных законов империи, важнейших законодательных актов екатерининского царствования. Возвращение к политическим принципам Екатерины II в дворянских кругах связывалось с возвышением ее последнего фаворита Зубова. В вельможных верхах Петербурга это обстоятельство было воспринято с неприязнью и даже раздражением: живого воплощения режима фаворитизма, воскресения его дворянские верхи никоим образом не желали. «Монарх в их руках, — подытоживал русский посланник в Англии Воронцов вести из Петербурга. — Он не имеет ни силы воли, ни твердости, чтобы противиться тому, чего хочет эта ужасная клика». Умеренная конституция? Как ни изобиловали указы Александра ссылками на екатерининское законодательство, это не означало полного возвращения к ее системе государственного управления. Да такое и не было возможно. Ни одна внутренняя проблема, оставленная императрицей, не была разрешена Павлом. Напротив, к ним теперь добавилась новая: ограничение самодержавной власти. Мысль эта получила довольно широкое распространение в сановных верхах столицы, испытавших на себе проявления необузданного характера Павла. Прежде всего такие настроения проявились среди руководителей антипавловского заговора. Воцарение Александра сопровождалось слухами о том, что в момент убийства Павла заговорщики пытались ограничить самодержавную власть. В петербургских гостиных строили различные предположения о том, что именно помешало заговорщикам, но все сходились в одном: после переворота стало заметно проявляться «стремление к олигархии, готовой, по-видимому, возникнуть на обломках абсолютной власти». Оно выражалось в «благотворном намерении» Зубова и Палена «ввести умеренную конституцию». Екатерининский фаворит «делал некоторые намеки, которые, кажется, не могут быть иначе истолкованы». Но одними намеками дело не ограничивалось. После переворота братья Зубовы и Пален довольно свободно произносили слово «конституция». Заговорщики и царь В апреле 1801 года в столице появились молодые друзья императора Строганов и Кочубей. Их монарх рассчитывал привлечь к работе над реформой государственного управления. Строганов выступил с идеей создания секретного комитета, в котором будут разрабатываться реформаторские проекты. Однако вопрос о реформе уже был поставлен руководителем только что совершенного переворота. 9 мая Строганов еще раз пытался убедить Александра в том, что император должен быть единственным творцом реформы. Но царь прекрасно понимал, что кроется за подобной формулировкой и против кого в первую очередь должно обернуться применение данного принципа на практике. Для Александра это был очень щекотливый вопрос. Он не стал объясняться на этот счет, но сказал вполне достаточно для того, чтобы рассеять иллюзии Строганова, — дал понять, что Зубов «посвящен в тайну и поэтому не следует более отступать перед ним, но надо думать только о том, чтобы извлечь из этого выгоду»... «Его Величество полагает, — записал Строганов, — что это можно было бы сделать с большей пользой, чем мы думаем». В тот же день Строганов встретился с Кочубеем, который пришел к выводу, что Александр «настолько скомпрометирован в вопросе о реформе с князем Зубовым, что нет уже никакой возможности более отступать назад». Строганов подтвердил эту догадку, сославшись на собственные слова царя. Набрасывая «Проект работы с Его Величеством», Строганов сделал одно интересное примечание: «Весь проект реформы стал известен, только и говорят о конституции. Что же необходимо сделать, чтобы уничтожить эту ферментацию? Согласно этому принципу, такой шум опасен. Поскольку этот шум касается только работы князя Зубова, а действия правительства никак не замешаны в этом шуме, возможно найти средства, но важно заняться этим». Компромисс Итак, замыслы Александра преобразовать Россию на конституционных началах весной 1801 года перестали быть достоянием только его окружения. Они стали известны столичной бюрократии, вельможной знати, военным Петербурга. В центре этого брожения умов стоял Платон Зубов. Как политическая фигура он был порождением ничем не ограниченного самовластия и даже в известном смысле являлся живым воплощением самодержавного произвола. Парадоксальность ситуации была в том, что именно он весной 1801 года стал лидером так называемого аристократического конституционализма. Зубов развил такую энергичную деятельность, что разговоры о конституции приняли почти всеобщий характер. Как ни старался Строганов убедить Александра в том, что нужно тайно разрабатывать реформу государственного устройства, как ни сочувствовал царь этим предложениям, они были совершенно неприемлемы для него. Император был вынужден пойти на компромисс с Зубовым, и это наложило отпечаток на всю реформаторскую деятельность правительства. Кронштадтская история Истоки тайного компромисса восходили к мартовским событиям. Но в мае ситуация изменилась. Император все так же дружески прохаживался с Зубовым, демонстрируя свое расположение, а тот продолжал дерзко волочиться за императрицей, выставляя напоказ свою безнаказанность. Но наиболее проницательные лица в Петербурге уже начинали сознавать, что заговорщики не достигли того положения, к которому стремились. Первые признаки этого стали проявляться еще в конце апреля, когда по столице поползли слухи о том, что Зубов в скором времени отправится в чужие края. Но очевидным ослабление позиций Зубовых стало уже в мае, после того как в Петербурге после месячного отсутствия вновь появился Пален и разыгралась кронштадтская история. 4 мая, когда Александр находился в Кронштадте, навстречу ему вышел гвардейский офицер и сообщил, что в Петербурге происходит волнение в войсках, сложился заговор, который разразится сегодня ночью, существует умысел арестовать императора и возвести на престол императрицу Елизавету, а во главе этого предприятия стоят братья Зубовы. Как только Александр вернулся в Петербург, он тотчас вызвал к себе братьев. Два часа их продержали во дворце, в то время как Пален принимал меры предосторожности. В результате выяснилось, что «офицеры, недовольные тем, что не пользуются... влиянием, на которое они рассчитывали благодаря последнему перевороту, вели себя несдержанно, а потом перешли к более решительным действиям, угрожая привлечь на свою сторону сообщников». Среди этих офицеров находился и генерал Бенигсен, учинивший расправу над Павлом. Бенигсен был известен своими связями с семейством Зубовых, да и все брожение офицеров 4 мая носило прозубовскую окраску. Как далеко заговорщики собирались продвинуть свое предприятие, установить не удалось. Но первой жертвой заговора должен был стать Пален, а самая умеренная цель заговора состояла в том, чтобы сформировать совет, который был бы назначен исключительно партией Зубовых. «Пален отдал приказ гарнизону быть под ружьем в течение всей ночи». После объяснения с царем «Зубовы были отпущены с еще большим благорасположением, чем прежде». Однако кронштадтская история не прошла бесследно для Зубовых. Выступление офицеров имело антипаленскую направленность, да и сам Пален не только не поддержал зубовских сторонников, но и не остановился перед тем, чтобы «по долгу службы» выступить против своих вчерашних единомышленников. Кронштадтская история вскрыла эфемерность союза Пален — Зубов. А это было на руку Александру и не могло не отразиться на судьбе конституционных планов вожаков антипавловского заговора, на их политических судьбах. Во многом ослаблению позиций Зубовых содействовал сам Пален. Некоторые современники считали, что во время кронштадтской истории он сознательно сгустил краски, чтобы уронить Зубовых в глазах Александра. Находились и такие, кто утверждал, что волнение 4 мая было вообще инспирировано Паленом для пагубы Зубовых. Два брата, Валериан и Николай, в середине мая объявили о своем отъезде за границу, но в Петербурге они все же остались и вместе с Платоном приложили все усилия для того, чтобы избавиться от своего могущественного соперника — Палена. Александр старался использовать разногласия в среде вчерашних заговорщиков, острую борьбу между ними за влияние. И в этом смысле Пален должен был быть противовесом братьям Зубовым. Крах графа Палена По мере того как влияние Зубовых падало, положение Палена становилось прочнее. К началу июня в его руках сосредоточился ряд различных по характеру должностей: члена Госсовета, управляющего гражданской частью в Эстляндской, Курляндской и Лифляндской губерниях, члена Иностранной коллегии, петербургского военного губернатора. 3 июня он получил новое важное назначение — управление в Петербургской губернии и гражданской частью. Локателли назвал этот пост вице-королевским. Но не прошло и двух недель, как политическая карьера Палена закончилась навсегда. Непосредственным поводом к конфликту явилось дело с иконой, которую вдовствующая императрица поместила в часовню Воспитательного дома. На образе были надписи, в которых можно было увидеть намек на убийц Павла и призывы к возмездию. Полиция донесла Палену, что икона привлекает в часовню многочисленные толпы. Пален отдал распоряжение убрать икону. 13 июня он доложил об этом императору. Вечером того же дня Александр отправился в Павловск и потребовал объяснений от матери. Мария Федоровна заявила сыну: «Пока Пален будет в Петербурге, я туда не вернусь». 15 июня поздно вечером Александр возвратился в Петербург и все утро следующего дня проработал вместе с Паленом. Тот еще не подозревал о собравшейся грозе, полагал, что император доверяет ему. Но, желая разрешить конфликт между матерью и Паленом, Александр решил пойти на компромисс. Во втором часу дня он поручил генерал-прокурору Беклешеву, интимному другу Палена, передать тому, чтобы он отправился в прибалтийские губернии, бывшие под его непосредственным управлением. Раздосадованный тем, что в конфликте с вдовствующей императрицей Александр не пожелал принять его сторону, Пален предпринял рискованный демарш: он пригласил к себе статс-секретаря Трощинского и потребовал полной отставки от всех должностей. Беклешев передал Палену повеление царя во втором часу дня. В шесть часов вечера вице-канцлер Куракин был при дворе, а в девять часов он отправился к Панину. Все это время лихорадочно решался вопрос о том, что делать с Паленом. В закулисной борьбе против него выступили не только приверженцы императрицы-матери, но и вчерашние единомышленники — Панин, семейство Зубовых... В девять вечера Пален заложил лошадей и вместе с семьей отправился в Ригу, послав Александру прошение уволить его ото всех должностей по состоянию здоровья. 17 июня прошение было удовлетворено. Падение Палена произвело сильное впечатление на современников. Большинство расценивало крах ливонского визиря как важнейшее самостоятельное действие Александра. На самом же деле для столь решительного шага в июне 1801 года царь еще не располагал должной силой, и отстранение Палена явилось следствием борьбы, острых разногласий в среде вчерашних заговорщиков. Трудно сказать, отдавали ли себе ясный отчет братья Зубовы в том, что, содействуя удалению Палена, они вырывали стул из-под всех, кто был замешан в убийстве Павла, и прежде всего из-под самих себя. Но падение ливонского визиря повлекло за собой изменения в расстановке сил в верхах. В поисках свободы рук 15 сентября 1801 года в Успенском соборе Кремля был совершен обряд коронации. Однако блеск и пышность этой процедуры не скрыли от наблюдателей немаловажного обстоятельства: главный виновник церемонии выглядел несколько странно: «Коронационные торжества были для него источником сильнейшей грусти». В Москве царь часто затворялся в своем кабинете и проводил часы в одиночестве. Дело было не только в том, что Александра, которого многие считали отцеубийцей, мучили угрызения совести. Царю предстояло принять важное решение. Коронация послужила вехой, за которой последовали значительные изменения в политических отношениях, существовавших при дворе. Полмесяца спустя был вынужден уйти в отставку Панин. Вскоре «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили об отставке полковников Яшвиля и Татаринова, как гласила молва, главных виновников смерти Павла. Комментируя сообщение об этой отставке, Люзи писал: «Вероятно, братья Зубовы не удержат надолго своих мест». И действительно, 24 декабря 1801 года Платон Зубов представил царю прошение. Временщик горько посетовал на «бесполезность настоящего служения» своего царю и попросил соизволения на путешествие в чужие края. Александр не замедлил согласиться. 28 декабря Кочубей сообщил об этом событии Воронцову. Он добавил, что весной то же самое сделает и Валериан Зубов. «Обстоятельства делают эти отставки действительно полезными, — торжествовал молодой друг царя, — все, я надеюсь, войдет в свою колею, покрыв вуалью прошлое». Но дела пошли не так гладко, как хотелось молодым друзьям. Подозреваются в заговоре В самом конце декабря по Петербургу поползли слухи о том, что Зубовы готовят переворот в пользу вдовствующей императрицы. Строганов поспешил записать разговоры, дабы передать их царю. Подозрения вызывали и огромные, значительно превышающие состояние Зубовых суммы, которые они занимали для якобы готовившейся поездки за границу, и приезд в Петербург и долгое пребывание в доме Зубовых московского обер-полицмейстера Каверина, и сближение Зубова с Паниным, со стороны которого Александр всегда ожидал заговора. Но наибольшую тревогу вызывало сближение Зубовых с князьями Куракиными, имевшими в придворных кругах репутацию своих людей в доме вдовствующей императрицы. Продолжительная конференция доверенного лица Зубовых наедине с Марией Федоровной ставилась Строгановым в связь с видами вдовы Павла на российский престол. Трудно судить о том, насколько реальна была опасность переворота в пользу Марии Федоровны. Однако стремление Зубовых использовать ее для того, чтобы укрепить свое положение при дворе, свидетельствовало, что время их влияния миновало. 4 января 1802 года Платон Зубов последний раз появился в Государственном совете, а через две недели он получил заграничный паспорт. За братьями Зубовыми и Паниным был установлен негласный надзор, настолько бесцеремонный, что вызвал объяснения между Валерианом Зубовым и Александром. Граф, видимо, сумел оправдаться и стал искать примирения с высочайшей властью. Залогом этого должна была стать его личная преданность самодержцу. В 1803 году состоялось публичное прощение Валериана Зубова вдовствующей императрицей, проводившей негласное расследование обстоятельств убийства ее супруга. Что же касается Платона Зубова, то он через своего брата передавал царю из заграницы послания. Его проект преобразования военных училищ даже обсуждался в правительственных верхах. Валериан Зубов пытался вернуть брата в столицу. Но Мария Федоровна не желала его видеть. Когда же он возвратился в Россию в 1803 году, то жил в своих поместьях, лишь изредка появляясь при дворе. С удалением Платона Зубова царь ощутил, что руки его стали свободными... Дата публикации: 3 июля 2003
Теги: Платон Зубов Александр
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~e97nB
|
Последние публикации
Выбор читателей
|