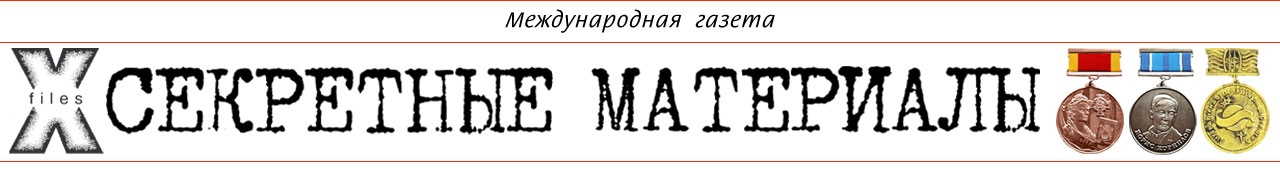|
СССР
Страна в «ежовых» руковицах
Валерий Ерофеев
журналист
Самара
564

Генрих Ягода, Александр Егоров, Климент Ворошилов, Михаил Тухачевский и Ян Гамарник, 1935 год. © ТАСС
В суете повседневных забот мы как-то незаметно подошли к очередному мрачному юбилею, на которые был так богат канувший в историю двадцатый век. Почти 90 лет назад по воле руководства правящей в то время коммунистической партии в Советском Союзе были развернуты беспрецедентные по своим масштабам репрессии властей по отношению к собственному народу. Курс на усиление классовой борьбы Началом резкого поворота с рыночных реформ НЭПа на политику жесткого государственного планирования историки считают принятый большевистской партией в 1927 году курс на широкомасштабную индустриализацию страны, на массовую коллективизацию и обобществление крестьянских хозяйств, что быстро привело к сворачиванию кооперативного движения, ставшего в советское время пасынком колхозно-совхозной экономики. Постановление ЦК, ЦИК и СНК от 30 января 1930 года «О ликвидации кулачества как класса» стало сигналом к развертыванию широкомасштабной борьбы с зажиточным крестьянством — репрессированными и сосланными в Сибирь и на Север оказались миллионы «кулаков» и членов их семей. В августе 1932 года вышли в свет еще два документа, ставших, по сути, юридическим обоснованием репрессий против крестьянства, а также против вольных ремесленников (кооператоров) — постановления ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укрепления общественной (социалистической) собственности» и «О борьбе со спекуляцией». Оба карали «преступников» вплоть до расстрела. Сразу же судами началось массовое вынесение расстрельных приговоров по делам крестьян, укравших в колхозе несколько мешков зерна или собиравших колоски в поле. Но своеобразным «спусковым механизмом», по-настоящему развязавшим властям руки для массовых репрессий, стало убийство Сергея Кирова в Ленинграде 1 декабря 1934 года. Теперь известно, что это преступление на почве ревности к своей жене совершил мелкий советский служащий Николаев. Но тогда Сталин и его окружение сразу же воспользовались подвернувшимся шансом обвинить в убийстве Кирова «троцкистов и оппортунистов» и на этом основании во весь голос заявить о необходимости усиления классовой борьбы на данном этапе построения социалистического общества. В последующие два года в СССР прошли громкие судебные процессы по делам видных деятелей коммунистической партии — Бухарина, Рыкова, Радека, Пятакова, Серебрякова, Сокольникова и других, которых признали врагами народа и вскоре расстреляли. Отсюда было уже совсем недалеко до массовой чистки не только партийной верхушки, но и всего советского народа, из которого предполагалось «выжечь каленым железом» каждого, кто был хоть в чем-то не согласен с курсом ВКП(б), ведущей страну к светлому будущему — к коммунизму. В сентябре 1936 года по личному распоряжению Сталина был арестован Генрих Ягода — руководитель Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). К этому времени он уже слишком много знал о закулисных играх высшего руководства страны и плюс к тому погряз, как бы сейчас сказали, в коррупционных связях. Но самый главный промах Ягоды состоял в другом: к определенному моменту он стал вдруг чувствовать себя слишком уж независимой фигурой в партии и в государстве. Такого «вождь всех народов», конечно же, простить ему не смог, и потому с 26 сентября 1936 года НКВД возглавил Николай Ежов, которого за небольшой рост в народе уже скоро стали называть не иначе как «кровавый карлик». Именно на период «ежовского» руководства НКВД пришелся самый страшный период репрессий, во время которого в стране, по разным данным, было расстреляно от 400 тысяч до миллиона человек, и еще свыше трех миллионов оказались в лагерях, зачастую по откровенно пустым и надуманным обвинениям. А идеологическая основа под необходимость проведения массовых чисток в обществе была подведена в конце июня 1937 года, когда состоялся очередной пленум ЦК ВКП(б). На одном из его заседаний за подписью генсека ЦК партии Сталина «в целях усиления борьбы с антисоветскими контрреволюционными организациями» было принято печально известное решение о создании на местах репрессивных внесудебных органов — так называемых «троек». В их состав входили первые секретари обкомов ВКП(б), областные прокуроры и начальники областных управлений НКВД, и они, согласно решению партийного пленума, с того момента получили право на принятие оперативных внесудебных решений по делам о контрреволюционных преступлениях. Позже подобные органы были образованы также при горкомах и райкомах ВКП(б), однако свои решения они все-таки были обязаны утверждать на заседании областной «тройки». Ныне многие историки считают, что решение о создании органов внесудебной расправы Сталин подписал, поддавшись требованиям ряда первых секретарей обкомов и крайкомов партии, поскольку в тот момент его сторонники отнюдь не имели в ЦК необходимого большинства. «У нас зря никого не арестовывают» Если взять для примера Куйбышевскую (ныне Самарскую) область в границах того времени, то в период «ежовщины» здесь было расстреляно не менее 10 тысяч человек, в том числе почти вся областная партийно-советская верхушка. Так, в августе 1937 года по приговору «тройки» был арестован и расстрелян Шубриков, который до марта 1937 года работал первым секретарем Куйбышевского обкома ВКП(б), а после был переведен на партийную работу в Сибирь. Та же участь вскоре постигла второго секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Левина, председателя облисполкома Полбицына, председателя облКК-РКИ Клюева, прокурора области Жалнина, секретаря обкома ВЛКСМ Блюмкина, командующего войсками ПриВО Дыбенко и его заместителя Кутякова. А еще раньше, в мае 1937 года, в штабном вагоне на станции Куйбышев был арестован и впоследствии расстрелян предыдущий командующий ПриВО Тухачевский, успевший прослужить на указанном посту всего пять дней. В марте 1937 года на должность первого секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) вместо Шубрикова был избран Постышев, перед этим только что освобожденный с поста секретаря ЦК ВКП (б) Украины. Причина его снятия со столь высокой должности ныне тоже хорошо известна: в 1932—1933 годах Постышев проявил себя как инициатор и главный вдохновитель завышенных зернопоставок на территории этой республики. Тогда же на Украине и в южных районах России случился массовый голод. Конечно же, определенную роль в этом сыграли и неблагоприятные климатические условия тех лет, однако основной причиной голода сегодняшние историки считают непомерные хлебные поборы с крестьян, у которых порой изымали все зерно подчистую, вплоть до семенного фонда, и это, по некоторым оценкам, привело к гибели свыше 3 миллионов человек. Несмотря на столь существенное понижение в должности, Постышев и после перевода в Куйбышев своего рвения по изобличению врагов народа не умерил, а продолжал политику массовых репрессий. По его доносам «тройками» и спецколлегией облсуда по надуманным поводам были осуждены сотни людей. Так продолжалось до тех пор, пока в январе 1938 года Постышев сам не был арестован, обвинен в нарушениях соцзаконности, контрреволюционной деятельности и в 1940 году расстрелян. Освобождение Постышева с поста секретаря ЦК ВКП(б) Украины и перевод его с понижением в Куйбышев в то время не остались незамеченными партийной интеллигенцией. Многие служащие, вспоминая очень похожую историю с Тухачевским, которого точно также сначала перевели из Москвы в Куйбышев, а потом арестовали, догадывались, что примерно такая же судьба ждет и Постышева. Именно поэтому стала возможной история, которая осенью 1937 года произошла в небольшом селе на юге области. Как гласят материалы недавно рассекреченного уголовного дела, 24 декабря 1937 года из Большечерниговского РО НКВД в Куйбышевское областное управление НКВД поступило дело о контрреволюционной агитации со стороны 38-летнего Травкова Георгия Филипповича, инструктора-бухгалтера управления овцесовхозов Наркомсовхозов РСФСР. Отягчающими обстоятельствами против него были следующие факты: Травков имел происхождение из служащих, а в 1919 году служил в Белой армии в качестве нижнего чина. Суть дела оказалась в следующем. В августе 1937 года Травков, прибыв из Москвы в служебную командировку в Глушицкий овцесовхоз Большечерниговского района Куйбышевской области в качестве представителя управления овцесовхозов, в магазине райкоопа увидел висящий на стене портрет секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Постышева. Травков тут же обратился к заведующему магазином Головину и стал настойчиво требовать, чтобы он снял портрет со стены магазина, доказывая, что Постышев одновременно с врагом народа Тухачевским весной 1937 года был снят с работы в ЦК ВКП(б) Украины, после чего и был направлен в Куйбышев на понижение. На возражения Головина и его убеждения в том, что представитель из центра ошибается, Травков остался при своем мнении и по-прежнему предлагал заведующему портрет Постышева со стены снять. Через день по заявлению Головина Травков за контрреволюционную агитацию был арестован органами НКВД. Слушание дела Травкова в спецколлегии Куйбышевского областного суда после проведения предварительного следствия было назначено на 20 января 1938 года. Однако незадолго до этого стало известно об аресте Постышева органами НКВД, поскольку тот оказался врагом народа. В связи с этим обстоятельством суд принял решение о возвращении дела Травкова в облпрокуратуру для проведения дополнительного расследования. Вторично судебный процесс по его делу состоялся 20 марта 1938 года, и в итоге Травков по ст. 58 УК РСФСР был приговорен к двум годам лишения свободы с последующим поражением в избирательных правах сроком на три года. В приговоре причиной его осуждения уже называлась не контрреволюционная агитация в отношении портрета Постышева, а... служба Травкова в рядах Белой армии, хотя это и происходило за 20 лет до описанных событий. Видимо, неспроста в то время ходила поговорка: «Наши органы зря никого не арестовывают». Враги народа под лупой Один из методов, который Постышев до своего ареста применял в ежедневной борьбе с врагами народа, заключался в... использовании лупы при рассматривании различных изображений в печатных изданиях, в том числе и фотографий в ежедневной областной партийной газете «Волжская коммуна». Известно, что каждое свое утро секретарь обкома начинал с просмотра прессы, после чего вызывал помощника и диктовал ему очередное донесение в областное управление НКВД. Между прочим, борьбу с врагами народа с помощью лупы придумал вовсе не Постышев. Секретарь Куйбышевского обкома лишь взял на вооружение приказ по Главлиту СССР № 39 от 14 февраля 1935 года, подписанный начальником Главлита Волиным, в котором, в частности, говорилось: «На ИЗО-фронте Главлитом обнаружены умело замаскированные вылазки классового врага. Путем различного сочетания красок, света и теней, штрихов, контуров, замаскированных по методу «загадочных рисунков», протаскивается явно контрреволюционное содержание. Как замаскированная контрреволюционная вылазка квалифицирована символическая картина художника Михайлова «У гроба Кирова», где посредством сочетания света, теней и красок были даны очертания скелета. То же обнаружено сейчас на выпущенных Снабтехиздатом этикетках для консервных банок (вместо куска мяса в бобах — голова человека). Исходя из вышеизложенного — приказываю: Всем цензорам, имеющим отношение к плакатам, картинам, этикеткам, фотографиям, фотомонтажам и пр., — установить самый тщательный просмотр этой продукции, не ограничиваться вниманием к внешнему политическому содержанию и общехудожественному уровню, но смотреть особо тщательно все оформление в целом, с разных сторон (контуры, орнаменты, тени и т.д.), чаще прибегать к пользованию лупой». Редакции газет не раз испытывали на себе жуткие последствия метода борьбы с врагами народа с помощью обычной лупы. Так, 21 сентября 1937 года в Куйбышевское областное управление НКВД от Постышева поступило заявление о факте обнаружения им контрреволюционного искажения портрета Маршала Советского Союза Буденного, помещенного в номере газеты «Волжская коммуна» от 20 сентября 1937 года. В тот же день управлением НКВД по этому факту было возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней Шелудяковой Елизаветы Львовны, русской, имевшей происхождение из служащих, фотографа газеты «Волжская коммуна», и 32-летнего Сергиевского Серафима Петровича, имевшего происхождение из священников, травильщика типографии «Волжская коммуна». Как сказано в материалах дела, в вину сотрудникам редакции и издательства было поставлено следующее: «На фотографии т. Буденного, помещенной на первой полосе газеты «Волжская коммуна» от 20 сентября 1937 года, на его рукаве пятиконечная звезда имеет явно выраженную форму фашистской свастики». По мнению следствия, «такую форму она приобрела в ходе проявления негатива указанного снимка, которое проводилось Шелудяковой. Затем травильщик цинкографии Сергиевский, получив фотографию т. Буденного, изготовил по ней клише с аналогичным контрреволюционным искажением и сделал оттиски с этого клише, хотя имел все возможности в ходе обработки клише при наличии лупы и оригинала обнаружить фашистскую свастику». Уже при первом рассмотрении этого дела, которое состоялось 20 января 1938 года, спецколлегия Куйбышевского областного суда, изучив представленные материалы, вынесла определение о том, что на негативе и на оригинале фотографии, сделанных Шелудяковой, искажения звезды на рукаве т. Буденного не наблюдается. Поэтому определением суда женщина была оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления и освобождена из-под стражи в зале суда. Далее в решении суда сказано: «Искажение фотографии появилось только в ходе изготовления цинкового клише, которое производилось Сергиевским». Несмотря на это признание, суд все же не усмотрел в действиях травильщика умысла, и, стало быть, состава преступления, предусмотренного ст. 58—10 УК РСФСР, которую переквалифицировал на ст. 111 УК РСФСР (служебная халатность). Окончательное рассмотрение дела Сергиевского состоялось 27 января 1938 года в спецколлегии Куйбышевского областного суда. По ст. 111 УК РСФСР он получил 4 месяца лишения свободы, которые к тому моменту уже отбыл в камере следственного изолятора, и потому его освободили из-под стражи прямо в зале суда. Сталин и голуби Бывали в те годы и откровенно трагикомические случаи в разоблачениях «врагов народа», что, впрочем, никак не принижало значимости ситуации, изложенной в следственных материалах. Так, в марте 1938 года спецколлегия Куйбышевского областного суда рассмотрела уголовное дело по обвинению по ст.58—10 жителя Сызрани, служащего конторы коопторга Семенова. Суть дела состояла в следующем. В то время на центральной площади Сызрани, как и во многих других городах, стоял памятник Сталину. Однажды в октябре 1937 года Семенов и его сослуживец Михайлов шли мимо него, и Семенов, взглянув на гранитного вождя, сказал своему попутчику: — Посмотри, а ведь памятник Сталину голуби обос...ли... (в тексте приговора это слово приводится полностью). В тот же день Михайлов написал на Семенова заявление «куда следует», изложив в тексте во всех подробностях высказанные сослуживцем слова в отношении «вождя всех народов». Приговор суда гласил: за контрреволюционную агитацию Семенова отправить в «места не столь отдаленные» сроком на 7 лет. Не менее «веселый» сюжет прослеживается и в материалах уголовного дела, которое в декабре 1937 года было возбуждено РО НКВД Елховского района по факту контрреволюционной агитации со стороны 26-летней Онучкиной Марии Алексеевны, имевшей происхождение из крестьян-бедняков, неграмотной, замужней, имеющей одного ребенка, ранее не судимой, работницы колхоза «Новый Путь» Елховского района. Как гласят следственные материалы, 29 ноября 1937 года Онучкина пришла в квартиру колхозного парторга Лутошина, где в то время также находились его жена, член сельсовета Кувшинов и колхозники Киселев и Таланин. Девушка увидела на стене квартиры плакаты с портретами кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР А.И. Коваленко и Е.В. Катаевой. По поводу последней кандидатуры Онучкина с насмешкой выразилась так: «Лизку-то зачем в депутаты? Это же первая б... у нас на селе». После этих опрометчивых слов парторг попросил Онучкину покинуть его квартиру, а на следующей день написал заявление в НКВД о факте контрреволюционной агитации. Свидетелями по делу выступили все присутствовавшие. Решением спецколлегии Куйбышевского областного суда от 19 февраля 1938 года на основании ст. 58—10 ч.1 УК РСФСР Онучкина была приговорена к лишению свободы на три года с последующим поражением в избирательных правах также на три года. «Освобожден... в зале суда» Существует мнение, что суды в 1937 году лишь «проштамповывали» предоставленные им органами НКВД уголовные дела, поскольку решение о том, каким должен быть приговор готовилось «наверху». Однако из архивных материалов следует, что в течение 1937—1938 годов суды не раз бывали просто вынуждены оправдывать подсудимых в силу надуманности обвинения. 10 июля 1937 года колхозник из села Русская Селитьба Елховского района Василий Нагорнов в местном сельсовете при попытке стереть пыль с висящего на стене портрета Сталина в нескольких местах надорвал бумагу, и это произошло на глазах председателя сельсовета. В тот же день Нагорнов был арестован органами НКВД и в ходе следствия ему предъявили обвинение по ст. 58—10 УК РСФСР. Однако 20 мая 1938 года в ходе слушания этого дела в спецколлегии Куйбышевского областного суда было принято решение: «надрыв бумаги на портрете т. Сталина Нагорновым сделан случайно, по неосторожности, и никто из свидетелей по делу не подтвердил, что в этом с его стороны было проявление какой-либо злой воли». В итоге Нагорнов был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления и освобожден из-под стражи в зале суда. А 16 октября 1937 года в прокуратуру города Куйбышева поступило заявление от гражданина Богачева П.Г. о том, что его новый сосед Гадалин Михаил Прокофьевич ведет контрреволюционную агитацию и в оскорбительной форме отзывается о Советской власти и Советском правительстве. Приехавшие вскоре работники милиции арестовали Гадалина и отправили его в следственный изолятор. В ходе расследования выяснилось, что бывшая жена Богачева Фекла Дмитриевна, разъехавшись с бывшим мужем, обменяла свою комнату на частный дом, ранее принадлежавший Гадалину. Однако Богачев не хотел, чтобы от него уезжала жена, пусть даже и бывшая, и потому он отказался пускать в квартиру приехавшего сюда с вещами Гадалина, хотя тот и предъявил ему обменный ордер, выданный горкоммунхозом. В итоге дело закончилось дракой старого и нового жильцов и вмешательством работников милиции, которым Богачев и сделал заявление о том, что Гадалин нецензурно ругал Советскую власть. Но во время слушания дела не было добыто никаких доказательств того, что подсудимый и в самом деле «нецензурно оскорблял Советскую власть и Советское Правительство». Свидетельницы Аникеева и Шафеева, вызванные в суд по настоянию Богачева, заявили, что сами они не слышали от Гадалина ничего подобного, а знают о них только со слов Богачева, который был сильно недоволен въездом нового жильца в соседнюю комнату вместо бывшей жены. На основании этого Гадалин спецколлегией облсуда за недоказанностью преступления был оправдан, после чего освобожден из-под стражи в зале суда. ...В начале декабря 1938 года от должности наркома НКВД был освобожден Николай Ежов, который уже через несколько дней после этого сам оказался в камере Лефортовской тюрьмы. В феврале 1939 года в закрытом судебном процессе Ежов был признан врагом народа как инициатор и главный исполнитель массовых нарушений социалистической законности. Его приговорили к высшей мере социальной защиты и через два дня после оглашения судебного вердикта расстреляли. 8 декабря 1938 года главой НКВД СССР был назначен Лаврентий Берия. В городах и весях СССР начались судебные процессы по делам работников НКВД, отличившихся в нарушениях соцзаконности при выискивании «врагов народа». Но и по сей день все материалы этих судов находятся в закрытых архивах. Дата публикации: 24 марта 2025
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~ygKXy
|
Последние публикации
Выбор читателей
|