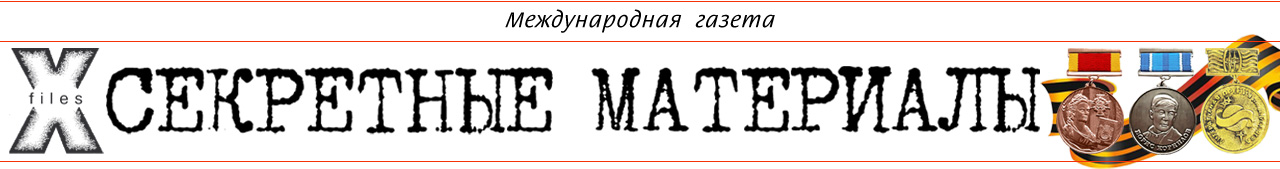|
КАТАСТРОФА
Горькая участь «Максима Горького»
Геннадий Черненко
журналист
Санкт-Петербург
442

Самолет АНТ-20 «Максим Горький»
В этой печальной истории все перемешалось: героизм и подлость, политика и талант. Произошла она без малого 90 лет назад, но до сих пор не восстановлена вся правда, не доказана документально. «Неразрешенные вопросы в этой истории остаются, — писал известный ученый Бычков. — Возможно, ответы на них еще будут найдены в рассекречиваемых архивах КГБ и партийных архивах». А пока в распоряжении исследователей лишь свидетельства современников, сообщения прессы тех лет да несколько сотен метров пленки кинохроники. КРАСНОКРЫЛЫЙ ГИГАНТ В конце 1932 года отмечался юбилей Максима Горького — сорокалетие его литературной деятельности. Возникла мысль создать небывалый агитационный самолет и назвать его именем писателя. Предложение исходило от популярного в то время журналиста Михаила Кольцова. Воздушный корабль должен был стать флагманом агитэскадрильи, также носившей имя Горького, служить символом огромных возможностей Страны Советов. Идея понравилась Сталину, проявлявшему тогда небескорыстный интерес к «буревестнику революции». После громких призывов к народу через газеты и радио удалось собрать около шести миллионов рублей. Создание самолета-гиганта АНТ-20 «Максим Горький» началось. Машина была спроектирована в конструкторском бюро Туполева. Постройка воздушного корабля шла быстро. К ней приступили 4 июля 1933 года, в апреле следующего (то есть девять месяцев спустя) самолет уже вывезли на аэродром, и 17 июня летчик Михаил Громов совершил на нем первый вылет. Два дня спустя Москва встречала челюскинцев. «Максим Горький» пролетел над Красной площадью. Еще раз москвичи увидели его на первомайском параде 1935 года. Он летел в сопровождении истребителей, казавшихся крохами рядом с ним, краснокрылым гигантом. В то время он считался самым большим сухопутным самолетом (гидропланы бывали и покрупнее). Размеры его поражали. В самом деле, полетный вес «Максима Горького» равнялся 42 тоннам. Он имел крылья размахом 63 метра и фюзеляж — длиной более 30 метров. Восемь моторов — шесть на крыльях и два, установленных друг за другом, наверху фюзеляжа, — развивали мощность свыше семи тысяч лошадиных сил и несли громадную металлическую птицу со скоростью до 240 километров в час. Запас горючего в четырнадцати топливных баках позволял воздушному кораблю пролетать без посадки две тысячи километров. В этом самолете все было огромным: колеса диаметром два метра, четырехметровые воздушные винты. Крыло в корневой части оказалось таким толстым, что в нем свободно разместились каюты и служебные помещения. Но более всего удивляли оборудование и комфортабельность агитсамолета. Здесь находился салон для пресс-конференций, мощная радиоустановка — так называемый «голос с неба» для вещания на землю с большой высоты, киноустановка, типография, печатавшая бортовую газету и тысячи листовок, пневмопочта, АТС для внутренней связи, бортовая электростанция. Для пассажиров — мягкие кресла и спальные места, столики с лампами, ресторан. Все способствовало приятному времяпрепровождению в продолжительном полете. «Максим Горький» был рассчитан на перевозку 72 пассажиров (рекордное число!) при 8 членах экипажа (два пилота, штурман, радист, механик и три моториста). «Повинуясь воле летчиков, — писал один журнал, — воздушный корабль будет летать над огромной Страной Советов и разбрасывать с борта видимые и невидимые зерна пролетарской культуры — листовки, музыкальные звуки, смелые большевистские мысли». Роковой маневр До весны 1935 года шли испытания «Максима Горького». 18 мая должен был состояться сдаточный полет, после чего машина вошла бы в состав агитэскадрильи. В связи с этим численность экипажа увеличили до 11 человек. Командиром корабля назначили летчика-испытателя Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Николая Журова. Вторым пилотом — Ивана Михеева, летчика агитэскадрильи, одного из лучших в то время, орденоносца, участника знаменитого перелета Москва — Пекин. Журов должен был передать корабль Михееву. Как ни странно, сдаточный, по существу — технический полет решили совместить с «катанием» сотрудников ОКБ Туполева и ударников завода ЦАГИ, особо отличившихся при строительстве воздушного корабля. Более того, предстояло заснять этот полет для кинохроники. Накануне полета летчик института Рыбушкин и кинооператор Щекутьев получили задание сопровождать «Максима Горького» на двухместном самолете Р-5 и производить киносъемку. Чтобы подчеркнуть гигантские размеры «Максима», для контраста и усиления впечатления рядом с ним должен был лететь истребитель Поликарпова И-5, биплан (точнее полутораплан, поскольку нижнее крыло у него короче верхнего), ведомый Николаем Благиным, тоже пилотом-испытателем ЦАГИ. Перед вылетом с Центрального аэродрома (бывшего Ходынского) возник спор: какой из групп — конструкторской или заводской — лететь первой. Спор разрешили жеребьевкой. Подбросили двугривенный: орел—решка... Производственники выиграли и по опущенному трапу, радуясь удаче, цепочкой пошли в самолет. С ними были шесть детей в возрасте от 8 до 15 лет. Первым взлетел биплан с кинооператором. За ним — истребитель Благина. «Максим Горький», гулко ревя моторами, развернулся и также пошел на взлет. Было около часа дня, когда воздушный колосс, сделав в районе Москвы два больших круга на высоте 700 метров, возвращался к аэродрому. Благин летел справа от «Максима Горького». Самолет Рыбушкина — немного выше, метрах в пятидесяти от левого крыла гиганта. «Смотрю, — рассказывал позже Рыбушкин, — Благин сделал правую «бочку» и отошел по инерции вправо от самолета». Затем истребитель перешел на левое крыло, а Рыбушкин благоразумно отошел в сторону и поднялся еще выше, полагая, что Благин снова выполнит «бочку», левую, и его опять отнесет от корабля. Рыбушкин рассказывал: «Благин прибавил газу, вырвался вперед и неожиданно стал делать новую фигуру высшего пилотажа. Это было опасно». Фигура у него не получилась. Истребитель потерял скорость и, описав дугу, врезался в правое крыло «Максима Горького», около его среднего мотора. Очевидно, удар пришелся по масляным бакам, так как из крыла вдруг вырвался клуб черного дыма. «Удар был чудовищной силы, — рассказывал Рыбушкин. — «Максим Горький» накренился вправо, от него отлетел черный капот и куски истребителя. Корабль пролетел по инерции еще 10 — 15 секунд, крен все увеличивался, и он начал падать на нос. Затем оторвалась часть правого крыла, потом отлетела часть фюзеляжа с хвостом. Самолет перешел в отвесное пикирование, перевернулся на спину. Машина ударилась о сосны, стала сносить деревья и окончательно рассыпалась на земле». Обломки самолета рухнули невдалеке от аэродрома, в районе поселка Сокол. Части огромной машины, тела пассажиров падали на лес, сады, крыши домов... «Такой храбрости нам не нужно» На следующий день после этого страшного происшествия в газете «Правда» появилась передовая статья под названием «Тяжелая потеря». В ней утверждалось, что причиной катастрофы явилась недисциплинированность летчика Благина, самовольно начавшего выполнять фигуры высшего пилотажа вблизи воздушного корабля. Сигнал отдан, началось бичевание «виновника трагедии». В «Известиях» от 20 мая была опубликована статья Николая Бухарина, в которой летчик Благин обвинялся в безрассудном и бессмысленном ухарстве. «Из этой гибели, — писал «любимец партии», — необходимо извлечь суровый урок. Надо навсегда покончить с воздушным хулиганством... Такой храбрости нам не нужно». В «Известиях» выступил и тот, чье имя носил воздушный корабль, Максим Горький. «Долой бесплодное и вреднейшее молодечество! — восклицал он. — Долой фокусников дела и слова!» А первые Герои Советского Союза, летчики, спасавшие челюскинцев, клялись «выжигать каленым железом озорство и хулиганство» в воздушном флоте. Уже тогда официальная версия причины катастрофы, этот дружный хор про «воздушное хулиганство» летчика Благина, выглядела неубедительно и показывала лишь желание высокого начальства отвести вину от себя, найти козла отпущения. Организация прогулочного полета была настолько небрежной, что не сразу удалось установить даже точное число погибших. В сообщении ТАСС, опубликованном на следующий день после трагедии, говорилось о тридцати шести погибших пассажирах, одиннадцати членах экипажа и летчике истребителя Благине. То есть о сорока восьми погибших. В действительности же жертвами стали пятьдесят человек. Решением правительства осиротевшим семьям выдали единовременное пособие по десять тысяч рублей и назначили повышенное пенсионное обеспечение. Похороны приняли на государственный счет. В ночь на 20 мая в Колонном зале Дома союзов были установлены урны с прахом жертв катастрофы и шесть гробов с телами тех погибших, родные которых пожелали похоронить их без кремации. С 11 часов следующего дня в зал был открыт доступ. И потекла людская река мимо постамента, обрамленного крепом и обложенного цветами. Молча сменялся почетный караул. В 14 часов 50 минут в зал вошли Сталин, Молотов, Каганович, Орджоникидзе. «Нельзя передать словами тех чувств, которые охватили всех, увидевших вождя, пришедшего разделить скорбь», — писали «Известия». Толпы людей стояли на улицах в ожидании похоронной процессии. Она растянулась на добрый километр. Во главе колонны с урнами в руках шли высшие партийные деятели, руководители города и разных организаций. Похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Траурный митинг открыл Хрущев. В речах клялись «еще теснее сплотиться вокруг партии и великого вождя, товарища Сталина». В стене были замурованы 44 урны, и среди них — прах Николая Благина. Его, виновника трагедии, «воздушного хулигана», хоронили с теми же почестями. И это не могло не показаться странным. Один в двух ипостасях Но пора рассказать подробнее об этом человеке. В 1935 году Николаю Павловичу Благину исполнилось 36 лет. Он родился в Петербурге. Его отец, Павел Онисимович, был военным топографом, много лет преподавал в Петербургском военно-топографическом училище и дослужился до чина подполковника. Известно, что Николай Благин учился в реальном училище доктора Шеповальникова, в котором хорошо преподавали иностранные языки и много времени уделяли эстетическому развитию и спорту. В 1918 году Благин добровольцем вступил в Красную армию: мечтал стать авиатором. Мечта его начала сбываться, когда он окончил теоретические курсы тяжелой авиации при дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец». А вскоре и Московскую школу авиации, и Высшую школу военных летчиков. После этого он мог летать на всех типах самолетов от бомбардировщика до истребителя. Его назначают старшим инструктором Высшей военной школы летчиков-наблюдателей в Петрограде. Но было еще одно дело, в котором Николай Благин тоже сильно преуспел, — изобретательство. Этот дар проявился в нем в юности. Учеником реального училища он изобрел звукозаписывающий аппарат. Став летчиком, создал учебную авиабомбу для тренировки в бомбометании. При ударе о землю из бомбы вырывалось облако белого дыма, имитировавшее взрыв. Он увлекся конструированием различного типа парашютов, например, для сбрасывания грузов. И они успешно применялись на практике. Да что там небольшие грузовые парашюты, Николай Павлович конструирует громадный купол, предназначенный для спуска в особой кабине сразу шести человек! Такая кабина с десантниками весила бы не менее тонны. В начале 30-х годов Благину удалось перевестись в ЦАГИ. Он с головой ушел в испытательскую работу. Участвовал в отработке самолета-крыла, параболы, известного авиаконструктора Черановского. Испытывал новые туполевские машины, в частности, тяжелый двухмоторный бомбардировщик ТБ-1, оборудованный стартовыми ракетными ускорителями. И продолжал изобретать. Тут и звуковой измеритель скорости самолета, и аэромаяк, и кассеты для запуска в полете реактивных снарядов, и контейнеры для сбрасывания военного снаряжения... За свои изобретения, за достижения в испытании авиационной техники командованием ВВС Благин был награжден легковой автомашиной «форд». Случай в те годы далеко не частый. Трагедия в московском небе остановила этого талантливого человека в самом расцвете творческих сил. «ЗАВЕЩАНИЕ» К тому времени летный стаж Николая Благина насчитывал полтора десятка лет. Его не без основания признавали летчиком очень высокого класса, многие полеты которого происходили на новых, опытных машинах. Так что же заставило его совершить роковой, смертельный маневр? Официальная версия известна, как и официальная характеристика Благина: «индивидуалист», «гордец», «легкомысленный человек». А вот один из организаторов парашютного дела в нашей стране Тарутин, знавший Николая Павловича, отзывался о нем совсем иначе: «Это был умный, пытливый человек». Да и не вяжутся с легкомыслием и ответственная испытательная работа, и огромный летный опыт, и упорный труд над многочисленными изобретениями. Сохранилась фотография Николая Павловича. Возможно, снимок был сделан после трудного полета: доброе, утомленное лицо, не пижон, а напротив, скромняга, комбинезон мешковатый, старый. И на другом, парадном, портрете — те же черты. Но самое удивительное произошло несколько месяцев спустя после катастрофы. Французская газета «Сервис-Мондьяль» («Всемирная служба») тогда сообщила сенсационную новость, будто русский летчик Николай Благин накануне своей гибели написал открытое письмо-завещание о том, что собирается намеренно таранить самолет-гигант. Обращаясь к соотечественникам, он якобы писал: «Братья и сестры, завтра я поведу свою крылатую машину и протараню самолет, который носит имя негодяя Максима Горького! Таким способом я убью десяток коммунистов-бездельников, «ударников», как они любят себя называть, которые на самом деле являются паразитами на теле народа. Этот самолет, построенный на деньги, которые вас вынудили отдать, упадет на вас. Но поймите, братья и сестры, всякому терпению приходит конец! Перед лицом смерти я заявляю, что все коммунисты и их прихвостни — вне закона! Я скоро умру, но вы вечно помните о мстителе Николае Благине, погибшем за русский народ!» Сам стиль письма и явные нелепости говорят, что это — фальшивка от начала до конца. Прав был историк авиации Бычков, когда писал: «Не мог Николай Павлович сознательно совершить такое деяние: характер не тот, воспитание не то». Не мог он намеренно погубить невинных женщин и детей, а также своих же коллег-цаговцев, никак не «паразитов», а действительно создателей уникальной машины. Да и будь на самом деле такое письмо, Николай Благин наверняка попал бы в разряд врагов народа, а его вдову, Клавдию Васильевну, и дочь Елену ждала бы горькая участь. Ничего этого не случилось. Напротив, вдове и дочери Благина назначили персональные пенсии. Значит, там, наверху, знали всю правду: Благин выполнял пилотажные фигуры не самовольно, а по указанию для «оживления» кинохроники. Рассказывают, что в тот день на Центральный аэродром приехали Ворошилов, Буденный и Алкснис — начальник ВВС. Видно — ожидалось необыкновенное зрелище. И не вина, а беда летчика в том, что такой цирковой номер был крайне трудно выполним, если выполним вообще (сохранилась кинопленка, на которой засняты эти трагические моменты). Известный летчик Нюхтиков, ветеран ВВС и Герой Советского Союза, вспоминая то время, рассказывал: «Начальство, стоя ногами на земле, приказывало порой выполнять такое, что теперь даже самому с трудом верится». Дата публикации: 16 июля 2003
Теги: авиакатастрофа Максим Горький
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~SZBN6
|
Последние публикации
Выбор читателей
|