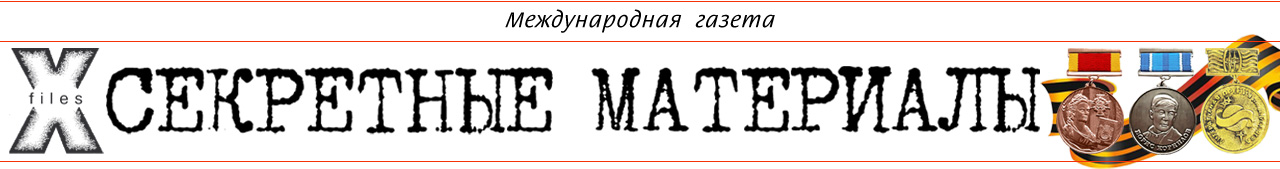|
ЖЗЛ
Харьковские музы
Андрей Парамонов, Анатолий Клёва
журналисты
Киев
190

Сестры Синяковы — Мария, Оксана, Надежда, Вера (слева направо)
Признано, что лучшие свои произведения Велимир Хлебников написал в Харькове. Но оказывается, что творчество и жизнь многих других известных поэтов и художников — Асеева, Пастернака, Божидара, Пичета, Уречина, Петникова, Бурлюка — также связаны с этим городом, с небольшим переулком под названием Никитинский. Здесь, в доме купца Михаила Ивановича Синякова, росли пять дочерей. Удивительное сочетание красоты и таланта сестер привлекало всеобщее внимание. Зинаида, Надежда, Мария, Ксения, Вера — они стали музами для создателей нового искусства и сделали Харьков столицей футуризма. Купец Михаил Иванович Синяков Михаил Иванович родился в Ахтырке в середине XIX века в семье мещанского сословия. В конце 1870-х годов переехал в Харьков, занимался изготовлением ювелирной церковной утвари. 7 января 1885 года повенчался с Александрой Павловной Демьяновской. А вскоре семья уже проживала в новом собственном доме №22 по Никитинскому переулку. Рядом с домом Синяковы разбили сад. После 1917 года он был признан ценным по дендрологическим признакам и сохранен. Сегодня бывший купеческий сад — любимое место прогулок горожан, уголок живой старины Харькова. Но мало кто знает и помнит, что на этих аллеях мечтали, влюблялись, писали стихи видные представители русского авангарда начала ХХ века. За городом, в Красной Поляне, у Михаила Ивановича была небольшая дача. Именно сюда в 1910 — 1920 годах приезжал к хлебосольному купцу практически весь цвет футуризма, кубизма и неопримитивизма России. Вот как рассказал об этом художник Борис Косарев: «Дом в Красной Поляне был большой, деревянный, стоящий как бы над двором. После того как вы входили в ворота, надо было еще по широкой лестнице подниматься на террасу, где обычно собиралась вся семья и гости за завтраком, обедом, ужином и бесчисленными чаепитиями, следующими с такой частотой, что правильнее было бы сказать об одном сплошном чаепитии, прерываемом завтраком, обедом и ужином. Стены в доме были оклеены какими-то до чрезвычайности красными обоями с попугаями. Однажды я заметил, что они оборваны во многих местах на высоте человеческого роста. Мне объяснили, что это местные девки, приходившие по какому-нибудь делу, украдкой обрывали их, чтобы потом румяниться». А это — слова Лили Брик: «Синяковых пять сестер. Каждая из них по-своему красива. Отец у них был черносотенец, а мать человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев». Действительно, сестры были неординарны и позволяли себе эпатировать окружающих даже в не самых подходящих ситуациях. Так, похороны матери они устроили в футуристическом духе: нарумянили ее, накрасили губы, подвели ресницы, вызвав этим удивление у православных селян, сбежавшихся посмотреть на такое кощунство. С другой стороны, как вспоминал Косарев, девушки отлично умели держать себя в обществе: «Могли изысканным обращением просто убить». Из каких соображений исходил Михаил Иванович, предоставляя своим детям, особенно любимым девочкам, практически полную свободу? Кто помог сестрам сделать их выбор в жизни? Что привлекало к этим очаровательным девушкам российскую творческую элиту? К сожалению, ответов на эти вопросы пока что не найдено. Поэтому остается единственная возможность узнать подробности о сестрах Синяковых — документы тех лет и свидетельства современников. Зинаида О Зинаиде известно немного. Она родилась 4 октября 1886 года. Окончила Харьковское музыкальное училище, затем — Московскую консерваторию. Стала известной оперной певицей. Здесь же, в столице, вышла замуж. В 1912 году в Москве ее навестили Мария и Ксения. Прогуливаясь по Тверскому бульвару, сестры познакомились с Маяковским. «Он был весь в черном — в черном плаще, в черной шляпе, широкополой, и бросалась в глаза огромная роза, вдетая в петлицу плаща, бледно-розовая. Он был очень скромный, застенчивый и неловкий. Разговоры велись все вокруг розы. Мы даже не знали, кто он такой, да и мы скрыли свои имена...» А вот что рассказал по этому поводу Николай Асеев в своих «Воспоминаниях о Маяковском»: «Ксения с Зинаидой ездили гулять в Петровско-Разумовское. Катались на лодке. Как-то раз их лодку обогнала другая, с двумя юношами. Стали грести наперегонки. Маяковский (как оказалось впоследствии, это был он) ни за что не хотел уступать и в конце концов обогнал их лодку, четырехвесельную, на одной паре весел. Маяковскому они приглянулись. Он хотел записать их городской адрес. Но девицы были строгие и адрес ему дали ненастоящий. Потом в Москве встретили его на улице. Он их узнал, стал пенять на обман. Тогда уже закрепили знакомство...» В свою очередь, Борис Пастернак в повести «Охранная грамота» пишет: «Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер Синяковых — Зинаида Михайловна Синякова-Мамонова. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) Добровейн. У нее бывал Маяковский. Был, правда, Хлебников с его тонкой надменностью. Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами...» Маяковский ухаживал за Зинаидой. Об этом увлечении упоминали многие из их круга — сестра Мария, тот же Пастернак. А вот Лиля Брик никогда не хотела признавать, что Маяковский был влюблен в старшую из сестер Синяковых. Умерла Зинаида Михайловна во время войны в 1942 году. Надежда Надежда родилась 17 января 1889 года. Так же, как старшая сестра, закончила музыкальное училище по классу фортепиано. В 1912-м вышла замуж за Василия Пичету — выпускника историко-филологического факультета Харьковского университета, который одно время входил в группу молодых харьковских художников «Голубая лилия». Вскоре молодожены переехали в Москву: он — работать в Управлении земледелия и государственных имуществ, а она — учиться в Московской консерватории. Надежда была, как вспоминал впоследствии художник Борис Косарев, прозаическая. «Но это не значит — простая, ничего подобного. Она была своенравна, иногда упряма, резка в суждениях: могла сказать, прижимая руки к голове, после ухода какого-нибудь отличающегося глупостью и болтливостью гостья: «Мазохизм!». Надя могла, например, расстроить какое-нибудь предприятие, сказав в последний момент «я не пойду!» или «я не буду!» и прихлопнув ладонью по столу. Переубедить ее было невозможно. Кстати, бывали случаи, когда все ей были потом благодарны за это упрямство. Внешне она была непохожа на сестер: очень смуглая (такую смуглость я потом видел в Одессе), южная, необыкновенно красиво и оригинально одевалась». Поэт Николай Асеев на правах старого друга познакомил сестер с Борисом Пастернаком, который стал часто бывать в московском доме Надежды. Именно этой женщине и их отношениям посвятил Пастернак свой цикл «Скрипка Паганини». В апреле 1915 года Надежда заболела и уехала в Харьков. Пастернак провожал ее до Тулы. Письма, написанные вдогонку и по большей части не отосланные, он положил в основу сюжета повести «Письма из Тулы». В первых числах июля Пастернак взял трехнедельный отпуск и приехал в Красную Поляну. Здесь были написаны многие его стихотворения, однако открыто назвать «плакучий Харьковский уезд» в своих «Мельницах» поэт решился лишь при редактировании в 1928 году.
Плакучий Харьковский уезд, Муж Надежды, Василий Пичета, вернулся в Харьков только после революции. Он сотрудничал в журналах «Колосья», «Пути творчества» и «Творчество». Выступал как искусствовед, культуролог, филолог и художник. Выставлялся как живописец. Мария Третья сестра — Мария — родилась 11 ноября 1890 года. В ее памяти навсегда остались выезды семьи в Красную Поляну: «Зеленые поля, нивы, лес, река в легком тумане, голубое небо — это моя живописная академия». Мария серьезно занималась рисованием. Ездила в Германию изучать живопись немецких и нидерландских художников. Год жила и училась в московской студии Рерберга. В 1912 — 1914 годах ее холсты вместе с работами Гончаровой, Ларионова, Бурлюка, Малевича и Экстер экспонировались на выставках «Сою-за молодежи» в Петербурге. В 1914 году Мария вышла замуж за художника Арсения Уречина. В Центральной Азии, куда они отправились путешествовать, Мария увлеклась монгольской иконой и персидской миниатюрой. Об Уречине известно лишь, что он родился в Харькове, вместе с Давидом Бурлюком — «отцом русского футуризма» — учился в Королевской академии в Мюнхене у Дица. В 1915-м жил в Петрограде, Мария с Пастернаком приезжали к нему в гости. Все вместе они навещали Маяковского. Лиля Брик вспоминала: «Пастернак приехал из Москвы с Марией Синяковой. Он блестяще читал блестящие стихи, был восторжен и непонятен, нам это нравилось. Мария поразила меня красотой, она загорела, светлые глаза казались белыми на темной коже, и на голове сидела яркая кое-как сшитая шляпа». В годы Гражданской войны Мария и Арсений жили в Красной Поляне. Об этом периоде Брик написала: «Молчунья, снабжавшая все семейство и гостей едой с огорода, который был в ее с мужем ведении. Даже в Харьков они возили на продажу что-то из этого огорода. Хлебников, кстати, всегда убийственно критиковал методы огородничества, которыми пользовался Уречин. Как бы то ни было, Мария успевала и огород вести и, невзирая на мешавшую ей суету, все время что-то рисовать. Ее занятия поначалу не воспринимались всерьез, но когда все увидели, что почтенные господа приносят ей заказы и она их выполняет в обмен на деньги и всамделишные продукты, отношение, конечно, изменилось». Среди почитателей Марии был Богдан Гордеев — Божидар. Сын профессора одного из харьковских институтов, он занимался европейскими и восточными языками, блестяще играл на фортепиано, увлекался живописью и входил в объединение «Голубая лилия». Божидара обожали все пять сестер Синяковых, отчаянно ревновали друг к другу и были счастливы, когда он приезжал в гости. Однако сам молодой человек любил единственную женщину — Марию. И когда в 1914 году девушка вышла замуж за Арсения Уречина, Божидар покончил с собой. Судьба Марии складывалась нелегко. Несмотря на то что она была довольно известным художником и оформила около 30 книг, после войны ее имя надолго забыли. Ей пришлось раскрашивать игрушки, работать на полиграфической фабрике, рисовать лекарственные растения к медицинскому атласу. В России единственная прижизненная персональная выставка графики Марии Синяковой состоялась в 1969 году в Киеве. А в 1990 — 1991 годах ее ранние акварели, представленные на выставке «Украинский авангард 1910—1930» в Загребе, вызвали настоящий фурор среди европейских экспертов. Ксения Ксения родилась 26 августа 1892 года. Как и старшие сестры Зинаида и Надежда, училась в музыкальном училище. В 1911 году она познакомилась с Николаем Асеевым, который приехал из Курска в Харьков поступать в университет. Потом Ксения записала: «Он был в сером костюме, гладко причесан, бледный, голубоглазый. И такой вежливый, что мне показалось, будто бы он подошел ко мне почти на цыпочках!.. Случайно узнав, что в нашей семье очень любят искусство, он осмелился навестить нас». И с тех пор Асеев стал бывать у Синяковых почти ежедневно. В 1912 году Ксения заканчивает музыкальное училище и вместе с Марией едет в Москву — чтобы продолжить учебу. Сестры останавливаются на Малой Полянке у Надежды, которая недавно вышла замуж. Здесь через Асеева, тоже перебравшегося к тому времени в Москву, они знакомятся с Пастернаком. Асеев и Пастернак много лет дружили. В молодости они даже некоторое время жили вместе, снимая одну комнату. Вспоминая зиму 1913 — 1914 годов, Пастернак в своей повести «Охранная грамота» писал: «Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер Синяковых — семьи, глубоко и разнообразно одаренной... Я любил Асеева. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного». В феврале 1916 года Асеев приехал в Красную Поляну и сделал предложение Ксении. «Я, давно его любя, тут же согласилась. Все произошло очень просто и быстро. Коля нанял телегу, и мы поехали. В деревне Кирсаново (по дороге к вокзалу) была старенькая деревянная церковка. Коля вызвал священника, который сказал: «Невеста чересчур молода, есть ли у вас разрешение от родителей на брак?» Я ответила, что родителей у меня нет. Умерли. «А опекун?» — «Тоже нет». Но уговоренный нами священник все же нас обвенчал. Так я стала женой Николая Асеева», — писала Ксения. Вместе они прожили почти полвека. Ксения хорошо играла на фортепиано, неплохо пела и рисовала, но главным ее талантом была любовь к мужу. Особенно наглядно это проявилось, когда Асеев заболел туберкулезом. Поддерживала она и своих сестер, жизнь которых сложилась не столь удачно. А в 1956 году Асеев посвятил им стихотворение «Пять сестер».
Мне пять сестер знакомы были издавна: Вера
Младшая из сестер Синяковых, Вера, родилась в 1896 году. Училась в музыкальном училище и художественной студии. В 1916-м вышла замуж за Григория Петникова. Начинал Петников как поэт-футурист, дружил с Божидаром и Хлебниковым, выпустил совместный сборник с Асеевым. После революции он возглавил Всеукраинский литературный комитет Наркомпроса, написал несколько книг стихов, выступал в поэтическом кафе «Хлам». Семейная жизнь у них с Верой не получилась, и вскоре молодые люди расстались. Может быть, причиной этого стал Хлебников, горячо влюбленный в младшую из сестер Синяковых. Петников сильно ревновал и друга, и жену. Художник Косарев вспоминает такой случай: «О нем знали не все, но до Петникова что-то дошло. Как-то Вера взобралась на шелковицу, вслед за ней полез Хлебников. На дереве он ее обнял и стал целовать. В конце концов оба свалились наземь. Хлебников постоянно ухаживал за Верой. Петников это видел и злился. Отчасти этим, наверно, объясняются их постоянные споры и пикировки». Был и такой эпизод. Когда после очередной размолвки с мужем Вера исчезла куда-то — очевидно, уединившись с Хлебниковым, — то на вопрос Косарева: «Где Вера?» — Петников мрачно и многозначительно отвечал: «В бегах...» После развода Петников уехал в Ленинград, где до 1931 года работал в издательстве «Академия», общаясь с Малевичем, Филоновым, Татлиным, Альтманом. Вернувшись в Харьков, занимался переводами, отчего жил бедно, к тому же его травила местная пресса. Но после войны неожиданно разбогател, пересказав братьев Гримм. Книга много переиздавалась, появились деньги. Тогда Петников купил дом в Старом Крыму и переехал туда. Навсегда. Его могила — рядом с могилой Каплера и Грина. Тем временем Вера вместе с сестрами переехала в Москву. Молодая, веселая хохотушка, она нравилась многим поэтам и художникам. В нее был влюблен Бурлюк, который постоянно рисовал ее портреты. За ней ухаживал Маяковский. Вера была одной из последних, с кем он разговаривал перед смертью. Асеев в своих «Воспоминаниях о Маяковском» пишет: «В воскресенье, 13 апреля 1930 года, я был на бегах. Сильно устал, вернулся голодный. Сестра жены Вера, остановившаяся в нашей комнате, сообщила, что звонил Маяковский. Но, прибавила она, как-то странно разговаривал. Всегда с ней любезный и внимательный, он, против обыкновения, не поздоровавшись, спросил, дома ли я. Когда Вера ответила, что меня нет, он несколько времени молчал у трубки и потом, вздохнувши, сказал: «Но что ж, значит, ничего не поделаешь!» В этот день Маяковского не стало». В середине 1930-х Вера вышла замуж за писателя Семена Гехта — о нем Паустовский как-то сказал: «Чистейший человек на земле». Гехт был дружен со многими известными людьми своего времени — Бабелем, Багрицким, Паустовским, Катаевым, работал с Ильфом, Булгаковым, Олешей. Вот коротко и вся история о сестрах Синяковых. Они были удивительно свободными и честными, принесли в мир столько энергии, красоты, любви, что осветили жизнь многих талантливых людей. А те в благодарность посвящали им поэмы, картины, а иногда — и жизнь. Дата публикации: 27 июля 2004
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~aX6bR
|
Последние публикации
Выбор читателей
|