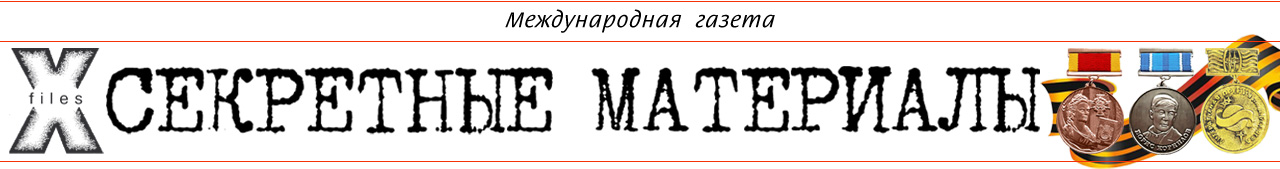|
РОССIЯ
Последнее правительство империи
Дмитрий Митюрин
историк, журналист
Санкт-Петербург
203

Санкт-Петербург, Мариинский дворец. До Февральской революции 1917 года — резиденция Государственного совета и Совета министров Российской империи. / Фото: Андреевский Леонид (1894-1938)
18 (31) декабря 1917 года находившийся в Могилеве Николай II получил от своей супруги сбивчивую телеграмму, в которой сообщалось об исчезновении Распутина. Не медля ни минуты, император отправился в Петроград, где лично попытался разобраться в ситуации. Завершившееся расследование привело его к малоутешительным выводам. От устранения близкого к царице деятеля недалеко было и до дворцового переворота. Поскольку убийцами «старца» являлись пламенные монархисты, а двое из них (великий князь Дмитрий Павлович и Феликс Юсупов) имели отношение к царствующему дому, Николаю II приходилось рассчитывать только на людей, преданных ему лично. Именно исходя из принципа личной преданности императору, формировалось последнее правительство Российской империи. То самое, с которым страна встретила Февральскую революцию. Кабинет без дарований Итак, кто же входил в последний состав царского Совета министров?
Председатель — князь Николай Дмитриевич Голицын. Это правительство не блистало дарованиями. Однако, вопреки широко распространенному мнению, некоторые из его членов были фигурами по-своему яркими и колоритными. Большинство из них — Барк, Войновский-Кригер, Риттих, Шаховской, Кульчицкий, Раев, Федосьев, Рейн — действительно относились к числу добросовестных чиновников-исполнителей, высидевших себе министерское кресло долгими годами безупречной службы. Тем не менее император ценил их за одно главное достоинство — безукоризненную преданность. Министр-ветеран Безусловным старожилом на министерском поприще являлся министр Императорского двора и уделов граф Владимир Борисович Фредерикс, занимавший свою должность аж с 1897 года. К моменту, когда он возглавил дворцовое ведомство, ему стукнуло 59, а за плечами были служба в лейб-гвардии Конном полку и управление царскими конюшнями. Владимир Борисович великолепно разбирался в лошадях, а позже заинтересовался и «железными конями», став председателем Императорского автомобильного клуба. Как отмечали современники, «всегда прямой, обходительный, добросердечный и гуманный, барон является одним из лучших представителей нашей гвардии. Благодаря своим прекрасным дарованиям и личным качествам, он пользуется полным доверием государя императора и общим расположением царской семьи». Николай II доверял Фредериксу. Однако по причине преклонного возраста тот все хуже справлялся со своими обязанностями, так что постепенно все хлопоты по управлению царским имуществом рассредоточились среди его помощников. Сам же Владимир Борисович превратился в неофициального начальника службы протокола — благо блестящее воспитание и аристократические повадки старого гвардейца как нельзя лучше подходили для подобного рода работы. Легко догадаться, каким шоком для этого старичка стали революционные потрясения 1917 года. Но он пережил даже их и тихо скончался в эмиграции, всего год не дотянув до своего 90-летия. Министр-профессионал Вторым по длительности нахождения в министерской должности и, пожалуй, наиболее компетентным среди министров был руководитель морского ведомства Иван Константинович Григорович. Он родился в 1853 году в семье потомственных моряков и продолжил фамильную традицию, пройдя путь от гардемарина до адмирала. Иван Константинович участвовал во всех войнах второй половины XIX — начала ХХ века. При обороне Порт-Артура (1904 год) командовал самым сильным из кораблей Тихоокеанского флота — броненосцем «Цесаревич», а позже — самим крепостным портом. И хотя учиться тогда пришлось на поражениях, Григорович извлек из собственного печального опыта необходимые уроки. Заняв в 1911 году кресло морского министра, он окружил себя деятельными, нестандартно мыслящими офицерами (вроде Колчака) и выбил из государственного бюджета средства на так называемую «малую кораблестроительную программу». В результате к началу Первой мировой войны флот Российской империи практически восстановил свою мощь, серьезно подорванную японцами. Среди коллег и подчиненных Григорович пользовался огромным авторитетом. В политику не лез и ни одного серьезного просчета на профессиональном поприще не допустил. Так что менять его было не на кого, да и незачем. Любопытно, что даже большевики не стали трогать Ивана Константиновича, определив его на теплое место в Морском архиве. Позже ему разрешили выехать в Европу для лечения. В 1930 году Григорович скончался в местечке Ментон во Франции, а в прошлом году тело адмирала было возвращено в Россию. Его перезахоронили в Санкт-Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Министр — «мертвая голова» Коллега Григоровича по сухопутному ведомству, генерал от инфантерии Михаил Алексеевич Беляев, был на 10 лет его младше и не мог похвастаться богатым боевым опытом. Свою карьеру он делал исключительно при штабах. Что, впрочем, не помешало ему получить золотое оружие за кампанию против Японии. Первую мировую войну Беляев встретил в должности начальника Генерального штаба. И, в общем-то, именно «благодаря» ему «мозг армии» превратился в абсолютно атрофированный орган. Офицер-генштабист Зайончковский так характеризовал своего начальника: «Это был человек, мертвящий всякое живое дело, почему в товарищеской среде и называли его мертвой головой». Зато Беляев сумел понравиться Александре Федоровне, которая упорно навязывала его своему супругу в качестве военного министра. Поговаривали, будто Беляева лоббировал и Распутин, но никаких реальных доказательств этого не обнаружено. 3 января 1917 года Михаил Алексеевич стал военным министром и в дни Февральской революции оказался одним из самых решительных защитников старого режима. Именно по его настоянию столица была объявлена на военном положении. Он же пытался вызвать в город надежные части, а когда все уже было кончено, уничтожил секретные документы министерства. Беляева дважды арестовывали по приказу Временного правительства, однако Чрезвычайная следственная комиссия так и не нашла оснований для привлечения его к судебной ответственности. Большевики поступили проще и в 1918 году расстреляли его без какого-либо судебного разбирательства. «Роковой» министр Однако лицо последнего Совета министров определяли не престарелые бюрократы, не профессионалы и даже не «мертвоголовые» служаки, а личности совершенно иного плана. После премьер-министра второй по значению фигурой в правительстве являлся министр внутренних дел. С сентября 1916 года эту должность занимал Александр Дмитриевич Протопопов. Этот цветущий 50-летний мужчина сделал не совсем обычную по тому времени карьеру. Окончив престижное Николаевское кавалерийское училище, он скоро пришел к выводу, что армейская служба плохо сочетается с его темпераментом. Здесь подоспело дедовское наследство, и, выйдя в отставку, Протопопов вступил во владение суконной фабрикой. Будучи, с одной стороны, дворянином, а с другой — капиталистом, Александр Дмитриевич умел уживаться и с теми, и с другими. Подобное положение определило и его политические пристрастия: в III и IV Государственные думы он избирался от «Союза 17 октября», выступавшего за постепенное превращение России в конституционную монархию. Сочетая политику с бизнесом, многие «октябристы» лоббировали собственные коммерческие проекты. Пример Протопопова являлся здесь наиболее показательным. За 2,5 года войны, благодаря крупным военным заказам, из просто состоятельного человека он превратился в миллионера. Однако, добившись успеха в предпринимательстве, Александр Дмитриевич решил еще и «наследить» в истории. Модный тибетский знахарь Петр Бадмаев (у которого он лечился от наследственного сифилиса) открыл перед ним дорогу к вершинам государственной иерархии. Именно в бадмаевской клинике произошла встреча Протопопова и Распутина. Александр Дмитриевич так рассказывал об этом: «Бадмаев очень советовал Распутину провести меня в члены правительства. Говорил, что это будет польза царю, хорошо и ему (Бадмаеву. — Д.М.). Что ему надо иметь в правительстве людей, которые его любят. Распутин ответил: «Я это понимаю. Как-нибудь устроим». Бадмаев также указывал, что царь не сделал ошибки, если бы назначил меня председателем Совета министров. Бадмаев сказал, что верит в силу и влияние Распутина на царицу и царя, и раз он этого желает, то и добьется...» Протопопов признался, что влюблен в царицу, чем еще больше понравился Распутину. «Старец» быстро раскусил своего собеседника и понял, что практический ум у того сочетается с психическими отклонениями. Александр Дмитриевич действительно был не только фантазер, но и мистик, увлекавшийся разного рода оккультными знаниями. В «старце» он увидел что-то вроде своего духовного учителя, в царице — прекрасную даму, которую следовало оберегать от опасностей. Кандидатура в министры внутренних дел — лучше не придумаешь. Дело оставалось за малым — убедить Николая II. Распутин и императрица выдвигали в пользу Протопопова следующий довод. Их протеже являлся влиятельной фигурой в так называемом Прогрессивном блоке. Лидеры этой коалиции выступали за создание правительства из представителей наиболее влиятельных думских фракций. Назначение Александра Дмитриевича могло выглядеть как частичная уступка требованиям оппозиции. Царь сдался и, судя по всему, не жалел о своем решении. Правда, Прогрессивный блок от Протопопова отрекся, обвинив того в предательстве. Но для императорской четы Александр Дмитриевич стал самым доверенным из всех министров. Николаю II нравилась его деловая хватка, нравилось то, что он не ставит сложных вопросов. Доклады царю Протопопов делал регулярно. Однако, игнорируя поступавшие с мест тревожные донесения, придавал им успокоительный, благостный характер. В то же время ни одна из действительно насущных проблем (будь-то борьба с вражеской агентурой, пресечение революционной агитации или обеспечение бесперебойных поставок продовольствия) всерьез не решалась. Причина была простой: они оказались не по зубам Александру Дмитриевичу. Да и придворные интриги он всегда предпочитал реальной работе. Дела постепенно запускались, но авторитет Протопопова рос неуклонно. После убийства Распутина он даже устроил на похоронах «старца» истерику — кричал, что на него снизошел дух покойного. Правда, нового Распутина из него так и не получилось. Впрочем, как и нового Столыпина, который, будучи министром внутренних дел, несколькими годами ранее спас империю от революции. Протопопов являлся человеком иного калибра. Хорошо знавший его поэт Александр Блок писал: «Протопопов — фигура оригинальная, стоящая совершенно одиноко среди представителей власти. Все они инстинктивно знали, что власть требует самоотречения, а каждый из них более или менее грубо все-таки носил маску объективности. Протопопов был среди них выскочкой. Он даже не пытался забронироваться и скрыть свою личность. Он принес к самому подножию трона всего себя, всю свою юркость, весь истерический клубок своих мыслей и чувствований. Этот зоркий в мелочах, близорукий в общем, талантливый, но неустроенный, вольнолюбивый раб был действительно роковым человеком — в том смысле, что судьба бросила его в последнюю минуту, как мячик, под ноги истуканам самодержавия...» Возможно, напитавшись духом Распутина, Протопопов вознамерился ни много ни мало как укомплектовать Совет министров своими ставленниками. Для этого он обратился к услугам Арона Симановича — секретаря «старца». Совместными усилиями им удалось подобрать целый комплект распутинских записок с фамилиями тех или иных чиновников и их характеристиками. Затем царице через фрейлину Анну Вырубову передали список тех лиц, которых Распутин якобы прочил в состав нового правительства. Обрадованная Александра Федоровна тут же переправила список в Ставку. Далее предоставим слово Симановичу. «Николай вызвал Протопопова, показал ему список Распутина и спросил его, знает ли он намеченных Распутиным лиц. Царь сам не имел понятия о них. Протопопов изобразил, что он записку видит впервые, но сказал, что намеченных лиц он всех знает и они являются наилучшими кандидатами». Пресловутый распутинский список возглавлял князь Николай Дмитриевич Голицын, который и стал последним царским премьером. Премьер-министр... Отпрыск одного из древнейших аристократических родов появился на свет в 1850 году. Учился в знаменитом Царскосельском лицее. Поступив на гражданскую службу, плавно делал карьеру. В 1885—1903 годах последовательно поруководил Архангельской, Калужской и Тверской губерниями. В 1903 году был назначен сенатором, что фактически означало удаление от реальных рычагов власти. На горизонте уже маячили сполохи революции, и царской администрации требовались более способные и энергичные деятели. Тем не менее Голицын время от времени курировал разные направления деятельности, а в годы Первой мировой войны возглавил Комиссию по оказанию помощи военнопленным. Неясно, каким образом он оказался в поле зрения царицы и Распутина и чем именно им понравился. Сам Николай Дмитриевич в своих показаниях Чрезвычайной комиссии Временного правительства начисто отрицал, что Распутин имел какое-нибудь отношение к его назначению. Причину своего внезапного взлета Голицын объяснял иначе. Начиная с весны 1915 года, он в качестве председателя Комиссии по делам военнопленных имел частые доклады у императора и, видимо, произвел на того благоприятное впечатление... Превращение казалось бы уже списанного со счетов чиновника в главу кабинета хотя и показалось современникам неожиданным, никак не противоречило традиционной схеме продвижения по службе. Благо послужной список Голицына был безукоризненным, а его личная честность и преданность престолу не вызывали никаких сомнений. Главой правительства он пробыл с 27 декабря 1916 года по 27 февраля 1917 года, но так и не провел каких-либо радикальных мероприятий, способных спасти существующую систему от катастрофы. Причина крылась, конечно же, не в отсутствии соответствующего желания, а в ограниченности способностей и недостатке инициативы. За эту слабость Голицыну пришлось расплатиться собственной жизнью. После революции он остался в Петрограде и зарабатывал на жизнь ремеслом сапожника. Время от времени его арестовывали, а летом 1925 года взяли в очередной раз и больше не выпустили. Последнего царского премьер-министра расстреляли по традиционному обвинению в антисоветском заговоре. …и другие официальные лица Помимо Протопопова, среди представителей высшей бюрократической иерархии явно связаны с Распутиным были последний министр юстиции Николай Александрович Добровольский (1854—1918) и последний председатель Государственного совета Иван Григорьевич Щегловитов (1861—1918). Карьера Добровольского протекала гладко до тех пор, пока, будучи гродненским гражданским губернатором, он не попался на финансовых злоупотреблениях. Благодаря связям жены (урожденной княжны Друцкой-Соколинской), дело замяли, а сам Николай Александрович получил место сенатора. Крупный промышленник Рубинштейн представил его Распутину, которому, впрочем, Добровольский не понравился, поскольку, по словам «старца», у того «были глаза мошенника». Но несколько десятков тысяч рублей, полученных от Рубинштейна, видимо, позволили Распутину разглядеть в глазах Добровольского что-то хорошее. После Февральской революции Николай Александрович также прошел через сито Чрезвычайной комиссии Временного правительства. А в сентябре 1918 года вместе с другими заложниками был казнен большевиками в Пятигорске... Его коллега Иван Григорьевич Щегловитов до руководства Государственным советом возглавлял министерство юстиции и, по словам Витте, полностью уничтожил различие между судом и полицией. Подобная решительность царю импонировала — в Щегловитове он видел «сильную личность». Ненависть же, которую испытывали к нему противники самодержавия, была столь велика, что он провел в Петропавловской крепости целых полтора года — от Февральской революции и до того момента, когда вместе с другими заложниками предстал перед расстрельной командой. Возвращаясь к событиям декабря 1916 года, следует отметить, что рассказ Симановича о «распутинском списке» представляется не совсем достоверным. Императрица Александра Федоровна пыталась провести на министерские должности людей, которых считала «своими». Почти наверняка при этом она ссылалась и на мнение «старца». Однако авторитет Распутина был для царя далеко не бесспорным. Все назначения Николай II делал самостоятельно, хотя и учитывая пожелания супруги. Лица, составившие последнее царское правительство, оказались не столько распутинскими, сколько его собственными креатурами. Способные или не очень, но они были искренне преданы идеям самодержавия. Возможно, в другой обстановке подобный Совет министров вполне успешно руководил бы Россией. Однако в конце 1916 — начале 1917 года страна находилась в состоянии политического кризиса. От власть предержащих требовались не только умение ориентироваться в подковерных интригах, исполнительность и личная преданность престолу, но и энергия, профессионализм, способность к принятию неординарных решений. Кадры, как говорил Сталин, решают все, а их отсутствие стало одной из причин разразившейся в феврале катастрофы. Дата публикации: 2 января 2007
Теги: империя правительство
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~0UcQK
|
Последние публикации
Выбор читателей
|