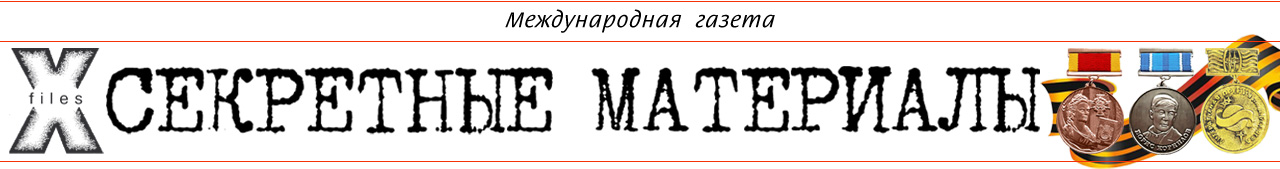|
РОССIЯ
Тайны и слава древнего Ржева
Наталья Чарухчева
журналист
Санкт-Петербург
238

Ржев. Вид на Городскую Думу и Собор
Редкой красоты здесь места — густые леса, бескрайние поля и луга. Вьется, будто атласная лента, Волга, а на высоких ее берегах широко раскинулся город — древний и вечно молодой. КТО МЫ ЕСТЬ? Первыми поселились на Ржевской земле кривичи — многолюдное и сильное славянское племя. Пришли они с трех сторон: «от кривичей полоцких, смоленских и тверских». Следы их найдены в курганах и древних городищах, коих множество окрест Ржева по берегам Волги. Под слоем земли «схоронились» тайны VIII—XII веков нашей эры. Но археологи раскопали немало «ключей» к их разгадке — кресты, древние печати, каменные плиты с изображением «креста в виде посоха»... Все это следы христианского культа, а так же предметы быта и жизни в этих местах племен не только славянских, но и финно-угорских, литовских. И клады отыскали — византийские монеты императора Ивана Цимихсия — современника киевского князя Святослава, арабский диргем с низовьев Волги и средней Азии, западные монеты с изображением императора Оттона III. По этим и многим другим находкам определили водный путь, что связывал тогда Верхнюю Волгу с южными и восточными областями Древней Руси. Шел он из Ильменского бассейна по реке Поле, ее притоку Явони, выходил волоком в Селигер, а оттуда спускался Волгой до впадения в нее реки Вазузы, поднимался вверх по ней и выходил волоком на верховья Днепра. Стало быть, связи у древних ржевитян были обширными, торговля процветала. К примеру, известен городок Николы Сишки, где находилось литовское поселение, и где собирались купцы и гостили — торговали значит. Потому в те далекие времена погостами называли места, где шли торги. Ссылаясь на западно-европейские хроники, некоторые исследователи считают, что мирное заселение этих земель началось со II века. Но похоже и раньше в районе Ржевского Поволжья, в этих благодатных местах жили люди? Археологи обнаружили немало памятников эпохи каменного века: стоянки охотников и рыболовов времен мезолита и неолитические стоянки древнего человека. Может, когда и откроется тайна — какими были первые жители ржевской стороны. Портрет их потомков вполне симпатичный. Он описан в «Генеральном соображении по Тверской губернии» (вторая половина XVIII века): «Ржевские жители росту немалого, лицом не дурны, собою видны, волосом большей частью темнорусы, не глупы, трудолюбивы и более трезвы». О хорошей породе ржевитян, особо отмечая скромность и стыдливость женщин, писал в начале XIX века Федор Глинка: «...Здесь не только женский пол, но и мужчины, будучи плотны и здоровы телом, имеют необыкновенную белизну и живой румянец на лицах. Отсюда начинаются прямо русские края, где народ, как говорят, белотелый... Здесь говорят чисто по-русски, одеваются по-русски: ферези, жемчужные кокошники и русые косы прелестны!» А отчего имя такое — Ржев? Может, от слова «ржева», то есть «ржавая вода», болотистое, топкое место? Но к нынешнему месторасположению города оно вовсе не подходит. Еще версия, что здесь было место впадения в Волгу реки Сишки, в которую впадает река Жева. Ее называли и Ажевой, и Оржевой... А может, «от ржания коня Володимира Володимерыча»? Однако советский писатель Чивилихин стоит на том, что Ржев, название хлебное, от злака — ржи. Так или иначе, но первое название жителей города — «ржевичи» — уже в 1285 году встречается в летописях. В XVI—XVII веках в приходно-расходных книгах московских приказов, монастырских записях появляется другое — «ржевитин». До сих пор спорят ученые и о дате основания Ржева. И хотя есть свидетельства, что стоял он еще раньше, официально годом рождения записали 1216-й — по дате упоминания в летописях — «Ржева городец Мстислава». Тогда он был во владении торопецкого князя Мстислава Мстиславовича Удалого. Но родовая ветвь князя вымерла, и в середине XIII века Ржев перешел Александру Невскому. При сыне его — Даниле Александровиче — город управлялся князьями, бывшими под политическим влиянием Москвы. А в середине XIV века захватил Ржев сын Литовского князя Ольгерда — князь Андрей — да посадил в нем своего наместника. В состав московских владений город вернулся только после Куликовской битвы. Герой ее Дмитрий Донской отдал Ржев своему двоюродному брату князю Владимиру Андреевичу Храброму (Серпуховскому), который княжил здесь до 90-х годов XIV века. От его имени, вероятно, и название «Ржева Володимира». Родословное древо русских князей от легендарного Рюрика ветвисто. На одной из них — имя Федора Борисовича Волоцкого, сына Бориса Васильевича и внука великого князя Василия Темного. Собираясь в поход на Новгород (1477 г.), он завещал Ржев сыну Федору. Однако позднее передумал и поделил Ржев на две половины, кои и достались после его смерти двум его сыновьям — Федору Волоцкому и Ивану Рузскому. После смерти Ивана его половина Ржева перешла к двоюродному брату Федора Волоцкого князю Дмитрию Углицкому (Жилке) — одному из сыновей великого князя московского Ивана III, дяде первого русского царя Ивана IV Грозного. Вплоть до XVII века продолжались набеги западных соседей на Ржевское княжество, междоусобные войны и родственные разборки за этот лакомый кусок, лежащий на стыке владений трех сильных политических соперников Восточной Европы: Москвы, Твери, Литвы — и было мостом между волжскими и днепровскими путями. Между 1513—1521 годами для города кончилась опасность феодальных войн — Ржев стал центром уезда Московского государства. Но в начале XVII века началась польская интервенция... Страшные беды и запустение принесла она Ржеву и его уезду: много народу погибло, бежало в другие города, не смогли возродиться и многие деревни, окружавшие некогда город. Трижды княжеским назвал Ржев известный писатель и ученый XIX века Максимов. Воистину так. Много лет город назывался Ржева Володимирова. До Октябрьской революции левобережная его часть называлась Князь-Федоровская, правобережная Князь-Дмитровская стороны. «ПРОМЫСЕЛ ИМЕЛИ...» В 1775 году Ржев был причислен к Тверскому наместничеству и назначен уездным. Через два года был готов план, по которому отстраивался новый Ржев, — с широкими улицами, перекрестками под прямым углом, каменными домами в центре. К концу 1780-х он стал вполне благоустроенным европейским городом. Правительство пристально наблюдало за строительством в Ржеве, что объяснялось растущим значением Вышневолоцкой системы каналов. В навигацию через Ржев, Тверь, Торжок и Вышний Волочек проходили огромные объемы товаров, поглощаемых Петербургом. Городские уездные ярмарки все более приобретали значение центров оптовой торговли. Можно вообразить, как кипела жизнь в Ржеве, где из чуть более семитысячного населения около двух тысяч торговали... Не менее шестидесяти семей занимались крупной оптовой торговлей с выходом в Санкт-Петербургский порт. Основным товаром ржевских купцов была пенька. Около трехсот семей скупали ее на Смоленщине и даже в Белоруссии и перепродавали своим же ржевским оптовикам. Более 500 семей «промысел имели разным мелким товаром» повседневного спроса, привозимого из других городов или закупленного на ярмарках оптом, у крестьян. Около сотни из них имели собственные лавки в гостином дворе на Спасской площади и даже в своем доме. Весной и летом в городе народу прибавлялось на 8—10 тысяч. Приезжали сезонники. Они обслуживали навигацию, а затем работали, пока было светло, на пенькопрядильнях. И тогда процветала «торговля харчами». Пекли и продавали хлеб, калачи, пряники... В Ржеве в XVIII—XIX веках были две ежегодные ярмарки — зимой и летом, по неделе. И чего только не везли торговцы из Твери, Торопца, Вязьмы, Осташкова, Старицы! Изделия из серебра, железа, меди, одежду, обувь, шелковые, шерстяные и бумажные ткани. Из Гжатска везли хмель, из Торжка — кожаные изделия, из Боровска — кумачи и пестрядь, из Калуги и Углича — меха да овчины. Каждую неделю по воскресеньям, средам и пятницам на местных торгах покупали и продавали хлеб, сено, дрова и разные съестные припасы. Но не только торговым промыслом жил город. Многие купцы выпускали продукцию на собственном производстве — канатных фабриках, мельницах, солодовенных, кирпичных заводах. Глины в Ржеве имелись качественные, потому в XIX веке здесь успешно работали кафельные и гончарные заведения. Продукцию давали и фабрики натуральных красителей для ткани, и прядильные, кожевенный, пильной, сальный, воскобойные заводы — всего 23 предприятия. По окраинным кварталам горожане имели сады — яблоки, ягоды, саженцы вывозились в Москву и Петербург. В первой четверти XIX века в Ржеве уже изготовлялась знаменитая яблочная и рябиновая пастила. А ремесленники «разных художеств» обслуживали заказы немногочисленных дворян, православных купцов и церкви. К ним принадлежали иконописцы Василий Дьяков, Иван Ерофеев и Иван Куприянов, а также мастер «оловянного художества» Герасим Красоткин. Сапожники, портные, плотники и столяры, набойщики по холсту, кузнецы имели мастерские по всему городу. А вот дворяне до отмены крепостного права в Ржеве практически не жили. Однако им принадлежала вся власть в городе, а также земли и крепостные крестьяне в уезде. В конце XVIII века «живущих без должностей дворян» числилось здесь два мужчины и три женщины, «при должностях» — 17 мужчин и при них 8 женщин. Даже городничие Никита Степанович Сеславин, Иван Андреевич Закревский, Платон Иванович Небольсин проживали в наемных квартирах. Да и не мог старый Ржев-работяга, по духу торговый, в быту домостроевский, стать дворянским ни по сути, ни по обустройству. Десятки деревянных пристаней, порой с вырытыми затонами, тянулись по берегам неширокой, но с апреля по июль полноводной Волги. В прилегавших к реке кварталах располагались амбары и склады для товаров. Вдоль берегов шел так называемый бечевник. Вверх по Волге тянули суда лошади, а после постройки в 1845 году Верхневолжского бейшлота, поднявшего уровень воды на 16 вершков, — пароходы. Весной на пристани на подмогу местным плотникам, спешили отходники — крестьяне из ближних и дальних деревень — строить плоскодонные речные суда типа барок. Их надо было до полусотни каждый год, но они выдерживали всего одну навигацию, и к следующей нужны были новые. А зимой по улицам сновали повозки ямщиков и местных крестьян, гуртом перевозивших товары. В начале XX века в городе насчитывалось 20 православных церквей. Первый храм во имя Покрова Богородицы построил в 1785 году купец Терентий Иванович Волосков — ржевский самородок — «великий открыватель, достославный химик и механик и на все руки искусный мастер». Родился он 20 апреля 1729 года в семье купца 3-й гильдии, часовых дел мастера. Всего в семье было 6 детей: 5 мальчиков и одна дочь Анна. Дети с малых лет помогали отцу, отсюда у сыновей и тяга к часовым механизмам, а более всего у второго — Терентия. Род Волосковых в Ржеве старинный, дом их — «длинный, приземистый, крашенный в красную краску под кирпич, семь окон на улицу, да мезонинчик в три окна»,— стоял возле речки Холынки. «Двор большой, надворная постройка справная, воздух пахнет скипидаром, щелоком и всякой дрянью, как в красильне. Люди ходят, их руки, лица вымазаны краской... Горница о четырех окнах, и чего-чего в ней не понатыркано: станки, ременные проводы, колесья, верстаки. А хламу разного во всех углах: железа, жести, меди, обрубков деревянных — горы». Терентий Иванович был деловит и очень предан изобретательским идеям. И остался в истории как самый выдающийся ученый-самоучка не только родного Ржева, но и всей Тверской земли. Он изобрел оригинальные краски, которые получили одобрительный отзыв в Петербургской академии художеств и пользовались признанием еще столетие после смерти изобретателя. Придумал зрительную трубу, через которую «можно наблюдение иметь за ходом и природой тел небесных, сиречь можно улавливать природу в самом действии ее работы, а сие в едино и поучает и забавляет». Но самую большую известность принесли ему часы в виде небольшого шкапика, над созданием которых Терентий Иванович работал 11 лет. Поэт и писатель Федор Глинка был, видимо, первым, кто описал их, сделал чертеж и так отозвался о творении мастера: «Волосков соорудил памятник во славу себе и России: он сделал астрономические часы, каких доселе в отечестве нашем, кажется, еще не бывало». Увы, часы эти пропали во время оккупации вместе с другими экспонатами Ржевского музея. В 1805 году на средства Волоскова и Комолова была построена каменная церковь Всех Святых, кладбище при которой называлось сначала Всесвятским, а затем Варваринским. Одним из первых в 1806 году здесь и был похоронен Терентий Иванович. К сожалению, ни могилы, ни кладбища, ни церкви, где его отпевали, не сохранилось — война... Но жива память о великом самоучке. Ржевская городская дума возвратила улочке, на которой он жил, старинное народное название «Волосковская Горка» вместо улицы Советская. У бывшего Варваринского кладбища, где похоронен Волосков, ржевитяне поставили памятный крест. ... После отмены крепостного права деловая жизнь в Ржеве стала затухать. Значение водного торгового пути было подорвано: в 1870 году через Ржев прошла железная дорога Вязьма-Лихославль. По времени это совпало с бурным развитием льноводства. А с середины 1890-х в окрестностях Ржева началась буквально «льняная горячка» — им засеивалось до половины посевной площади ярового клина в уезде. Из мелких мануфактур выросли фабрики. В город переехали разорившиеся помещики, увеличилось число чиновников. После пожаров 1870-х были отстроены и возведены заново двух- и трехэтажные каменные дома вдоль Волги. Среди ремесленников появились новые специальности — модистки, парикмахеры. И тут в размеренную жизнь старого Ржева ворвалась революция. КТО С МЕЧЕМ К НАМ ПРИДЕТ... В русской истории Ржев играл важную роль. Пограничный город не раз становился прифронтовым, а жители — воинами, защитниками дома и Отечества. Выходцы из Ржева, согласно списку боярских потерь, помещенному в сказании о Мамаевом побоище, сражались на Куликовом поле. Во время Ливонской войны Ржев снабжал Москву снаряжением, продовольствием, отправлял на нее и своих воинов. В архивных документах сохранилось упоминание о том, как в отряде ржевитян нашелся воин-плотник, предложивший невиданный проект «гуляй-город» — крепость-сруб, что сама двигалась, паля из пушек. В Отечественную войну в августе 1812 года Ржевский уезд дал 1 786 человек в тверское ополчение, на которое ржевские купцы и дворяне пожертвовали более 30 тысяч рублей. А в сентябре 1812 года 500 ржевских горожан и крестьян создали добровольческий отряд. Вооружившись топорами, тесаками, рогатинами, пиками, ополченцы геройски оборонялись, не допустив разорения города и деревень. В этой войне прославил Ржевскую землю неукротимый Александр Сеславин. Необычайную храбрость проявил он в Бородинском сражении. И после со своим партизанским отрядом громил врага в его тылах. Он отличался изумительной энергией, поразительной смелостью, большим умом и значительными военными способностями. Дерзкий и ловкий разведчик однажды едва не захватил в плен самого Наполеона. Сеславин первый обнаружил движение неприятельской армии на Калугу и предупредил Кутузова. В результате наши главные силы успели преградить под Малоярославцем путь Наполеона в южные губернии и заставили его отступать по разоренным войной местностям. Опоздай донесение Сеславина на несколько часов, французы обошли бы нашу армию, и исход войны мог стать иным. Родился Александр в имении мелкопоместного дворянина Никиты Сеславина в сельце Есемово Ржевского уезда Тверской губернии. Здесь, на берегу реки Сишки, прошло детство будущего героя, здесь и похоронен генерал-лейтенант Сеславин, умерший в 78 лет 25 апреля 1858 года. На большом холме, поросшем березами, в том месте, где Сишка сливается с Волгой, в 20 километрах выше Ржева стоит скромный памятник, восстановленный благодарными ржевитянами после войны с фашистами. ...Великая Отечественная война. Уже другое поколение граждан города проявило в ней все свои лучшие патриотические качества. Историки неохотно берутся за «ржевскую тему» и в сознании большинства людей она занимает незначительное место. Может, оттого, что долгое время от народа скрывали правду: принято было считать, что гордиться тут нечем. Советские войска 14 месяцев, вели «бои местного значения» (так их обозначали в сводках и по инерции во многих поздних источниках), город был оставлен врагом, а не «взят нашими в ходе «тяжелых боев», как пытались это представить. В итоге — победителей нет, явных успехов тоже, зато потери огромны, стало быть, бессмысленны. И незачем ворошить негероическое прошлое. Вот и не ворошили. Тем не менее некоторые историки считают: не было бы Ржева — не было бы и Сталинграда. Именно потери, которые понес враг под Ржевом, помогли отстоять «волжскую твердыню». Ржевский рубеж действительно сыграл значительную роль в истории Великой Отечественной войны, долгие месяцы сдерживая крупные силы войска группы «Центр», ставившей целью второе наступление на Москву. Цена победы в Ржевской битве оказалась очень высокой — здесь погибли сотни тысяч советских воинов и жителей города. Дата публикации: 26 мая 2007
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~ONHNg
|
Последние публикации
Выбор читателей
|