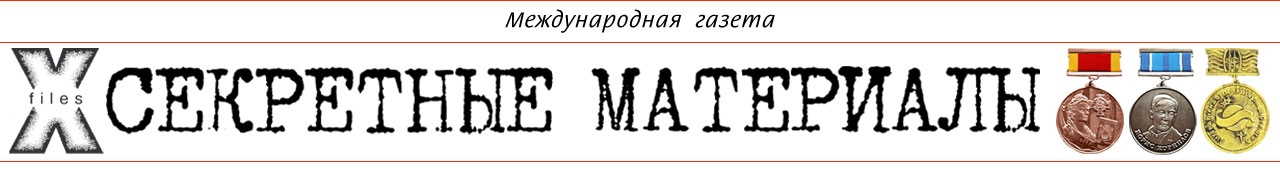|
ВОЙНА
Украденная победа
Дмитрий Митюрин
историк, журналист
Санкт-Петербург
178

Генерал Алексей Брусилов на станции Ровно. октябрь 1915. / Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск
В январе 1917 года на огромном Восточном фронте, протянувшемся от Балтийского моря до Каспия, установилось относительное спокойствие. Время от времени противники обменивались незначительными ударами, однако основные усилия были сосредоточены на подготовке к весенней кампании. Именно в эти дни на вопрос журналистов: «Сумеет ли Антанта выиграть войну?» — популярный военачальник Алексей Брусилов ответил: «Война нами уже выиграна. Вопрос лишь во времени». Сегодня подобный ответ кажется странным. Мы знаем, что 1917 год принес стране не только две революции, но и поражение на фронте. Вот только был ли этот разгром неизбежным, или же наоборот судьба и коварный противник украли у России почти верную победу? От Балтики до Каспия Не отвлекаясь на проблемы внутриполитического характера, попытаемся оценить положение Российской империи в январе—феврале 1917 года с чисто военной точки зрения… Итак, большая часть германской армии наглухо застряла на Западном фронте, где ей противостояли вооруженные силы Франции и Англии. В России войск у немцев имелось намного меньше, и здесь основная тяжесть борьбы падала на австрийских союзников. Кроме того, австрийцы оттягивали на себя итальянскую армию. На Балканах австро-германо-болгарские войска оккупировали Сербию и Черногорию. «Интернациональная» группировка, состоявшая из русских, французских, английских, сербских и итальянских частей, наседала на них с юга из греческих Салоник. Сами же греки по-прежнему пребывали в размышлениях – на чьей стороне выступить? Аналогичным размышлениям предавались и правители другого балканского государства – Румынии… Флот под командованием адмирала Колчака господствовал на Черном море. Правда, русские потеряли линкор «Императрица Мария», погибший, видимо, в результате диверсии. С другой стороны, Колчак сумел перекрыть водную коммуникацию, связывающую Стамбул с Зунгулдаком – местом, где находились единственные в Турции угольные копи. В результате турецко-германская эскадра не имела возможности выйти в море. В самой Турции пришлось ограничить железнодорожное движение, освещение городов и даже производство снарядов. Пользуясь отчаянным положением османов, русское командование планировало осуществить десант в районе Стамбула. Для выполнения этой задачи выделили несколько судов Черноморского флота и начали формировать Особую дивизию под командованием Свечина. Между тем восточные районы Турции уже были заняты войсками Юденича. С юга к ним на соединение продвигались англичане, сумевшие разжечь мятеж среди арабских подданных султана. В отместку турецкие и германские агенты попытались поднять восстание в нейтральной Персии (Иране), и тогда «наводить порядок» в эту страну двинулся казачий корпус генерала Баратова. С мятежниками было покончено, но здесь в дело вступили превосходящие силы турок. Русским пришлось оставить Хамадан и перейти к обороне. К январю 1917 года Баратов собрался с силами и, разгромив две турецкие дивизии, отбил Хамадан обратно. Однако и Балканы, и Кавказ, и Ближний Восток не были для Антанты глав-ными театрами военных действий. Судьба войны решалась во Франции и в России. Именно поэтому главными удачами 1916 года были отражение немецкого наступление против Вердена и «брусиловский прорыв», в ходе которого русским удалось перемолоть значительную часть австро-венгерской армии. Успехи оказались бы еще большими, если бы… у России не появился лишний союзник. Пустые хлопоты Рассказывают, что когда начальника штаба Ставки Верховного главнокомандующего генерала Алексеева спросили, как именно отразится на ходе боевых действий вступление в войну Румынии, он ответил: «Если румыны присоединятся к немцам, то нам потребуется тридцать дивизий, чтобы разбить их. Если же румыны присоединятся к нам, то те же самые тридцать дивизий потребуются, чтобы спасти их от поражения». И вот Румыния решила «помочь» Антанте. В результате за три месяца королевская армия была разгромлена, а почти вся страна оказалась оккупирована австро-немецкой группировкой фельдмаршала Августа Макензена. Алексееву пришлось срочно спасать своего незадачливого союзника и задействовать те самые тридцать дивизий для создания нового Румынского фронта. Тем не менее остановить наступление противника удалось только в январе 1917 года на подступах к реке Серет. Румынский король укрылся в Яссах за частоколом из дружеских русских штыков, в то время как австро-немецкие войска маршировали по Бухаресту. Решив воспользоваться удачным моментом, 12 декабря 1916 года германский канцлер Бетман-Гольвег выступил с предложением начать мирные переговоры. В странах Антанты эту неожиданную инициативу отвергли, расценив ее как свидетельство слабости Германии. Военные обозреватели и журналисты заботливо разъясняли читателям, что людские и сырьевые ресурсы противника находятся на исходе. Возможно, чтобы продемонстрировать свой воинственный пыл, русское командование решило провести хотя и локальное, но все же достаточно крупное наступление на самом стабильном участке фронта. Эта малоизвестная операция и стала последним сражением старой императорской армии. Командарм-12 Для командующего 12-й армией генерала от инфантерии Радко-Дмитриева успех предстоящего наступления был делом чести. Он помнил, как полтора года назад войска под его командованием не смогли ликвидировать неприятельский прорыв у Горлицы. В результате вся русская оборона посыпалась как карточный домик. Всего за три месяца враг занял Польшу, Западную Украину, Литву и Курляндию (сегодня – южная часть Латвии). Но дело было даже не в том, чтобы восстановить свою репутацию военачальника, а в том, чтобы искупить собственную вину перед Россией: страной, которую он, кажется, даже любил больше, чем родную Болгарию… Радко Русков Дмитриев (более известный как Радко-Дмитриев) родился в 1859 году в болгарском селе Гадец. Еще в юном возрасте ему довелось поучаствовать в антитурецком восстании, а затем, когда в Болгарию пришли русские освободители, Радко добился зачисления не куда-нибудь, а в привилегированный полк лейб-уланов. В независимой Болгарии он был одним из тех, кто создавал армию нового государства. При этом молодой офицер ничуть не скрывал своих панславистских взглядов, считая, что именно Россия должна объединить вокруг себя все православные народы Балканского полуострова. Когда к власти в Болгарии пришли австрийские ставленники, Радко-Дмитриев участвовал в антиправительственном заговоре и в конце концов был вынужден эмигрировать. Десять лет он служил на Кавказе, а когда в 1898 году Петербург и София помирились, вновь вернулся на Родину, где получил звание подполковника. Хотя власти и не любили его, в армии Радко-Дмитриев пользовался популярностью. После Балканских войн 1912—1913 годов он уже считался лучшим из болгарских генералов, а его фамилия была известна всей Европе. Затем Радко-Дмитриева назначили послом в Петербурге, но в 1914 году он вышел в отставку и принял российское подданство и даже вступил в императорскую армию. Шаг этот вызвал в России бурю восторгов. А вот в Болгарии реакция оказалась не столь однозначной. Хотя большинство населения и сохраняло чувство признательности к русским «братушкам», освободившим их от турецкого ига, король Фердинанд I тем не менее решил присоединиться к Германии. Таким образом, Радко-Дмитриев превратился во врага своей Родины. Правда, воевать ему пришлось не с болгарами, а с немцами и с австрийцами. С осени 1914 года он довольно успешно командовал сражавшимися в Галиции войсками 3-й армии и даже получил звание генерала от инфантерии. Теперь всего один шаг оставался до фельдмаршальского жезла… Но в мае 1915 года грянула Горлицкая катастрофа. Справедливости ради следует отметить, что командарм-3 предупреждал и об опасной концентрации сил противника и о нехватке боеприпасов. В общем, Радко-Дмитриев не был единственным виновником, хотя ему было от этого не легче. Несколько месяцев он пребывал на вторых ролях, пока в марте 1916 года не возглавил оборонявшую Ригу 12-ю армию. И русские, и немцы на этом участке «зарылись в землю», так что попытка прорвать оборону противника считалась делом почти безнадежным. С другой стороны, как вполне здраво рассуждал Радко-Дмитриев, если враг нападения не ожидает, можно использовать фактор внезапности. Разработанная им комбинированная операция представляла собой новое слово в военном искусстве. Помимо атаки «в лоб» предполагалось высадить морской десант в тылу у 8-й германской армии. Однако новый командующий Северо-Западным фронтом генерал Рузский приказал ограничиться фронтальным наступлением. «Лебединая песня» царской армии Задача, стоявшая перед 12-й армией, заключалась в том, чтобы ликвидировать вражеский плацдарм, отбросив немцев за реку Курляндская Аа (Лиелупе), и перерезать рокадную магистраль Виндава – Митава – Якобштадт. На 30-километровом участке фронта, протянувшемся от болота Тирутль до села Орай, Радко-Дмитриев сосредоточил 82 батальона пехоты, что почти вчетверо превосходило силы обороняющихся. Главный удар наносился Бабитской группой (из 48 батальонов). На флангах ее подстраховывали Олайская (2-й Сибирский корпус) и Одингская (Особая бригада) группы. В нарушение всех канонов наступление предполагалось начать вообще без артподготовки. Зато местность была тщательно изучена, а наступающие войска получили белые маскировочные халаты. И вот утром 5 января под покровом мглы и метели соединения Бабитской группы ринулись в атаку. Впоследствии генерал-квартирмейстер германской армии Эрих Людендорф признавал, что это было единственное наступление русских, оказавшееся для немцев абсолютно неожиданным. Вражескую оборону прорвали сразу в трех местах, овладев деревнями Скудр, Граббе, Скандель и выйдя к Курляндской Аа. С большим удивлением русские разглядывали захваченные немецкие блиндажи и землянки, уставленные удобной мебелью и даже роялями. Большое удивление вызвали и «взятые в плен» коровы, снабжавшие свежим молоком солдат рейха. К сожалению, наступление на флангах уже не оказалось для немцев сюрпризом. Вражеские пулеметы косили пехоту, а когда русские попытались ввести в дело авиацию, из-за метели в воздух смогли подняться лишь отдельные самолеты. Впрочем, толку от них не было никакого, поскольку, вместо того чтобы вести штурмовку вражеских позиций, летчикам приходилось думать о том, как бы не сорваться в штопор. Бросить же в бой кавалерию, из-за глубокого снега, даже не пытались. Оправившись от неожиданности, немцы открыли артиллерийский огонь по Бабитской группе. Но как только канонада затихла, русские бросились в новую атаку и, обойдя Пулеметную горку, взяли в окружение несколько германских батальонов. Часть неприятелей полегла, часть сложила оружие. Далее войска 12-й армии заняли села Огле, Витинг и Нейн, после чего, как отмечал сам Радко-Дмитриев, «наш удар потерял характер внезапности, на которую он, главным образом, был рассчитан, и вошел в фазис методической борьбы с неизбежным последствием брать каждую пядь земли». Попросив у Ставки резервы и получив отказ, 11 января Радко-Дмитриев приказал прекратить наступление. Захваченная территория представляла собой прямоугольник протяженностью 15 километров по фронту и 5 километров в глубину, но немцам этот клочок земли был важен как плацдарм для будущего броска на Ригу. Свирепые контратаки 10-й германской армии продолжались до 3 февраля, однако отбить удалось только пару сотен квадратных метров. Почти месячное противостояние в снежной пурге измучило противников. Победа осталась за Радко-Дмитриевым, хотя и русские, и немцы потеряли поровну — примерно по 20 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Но если в германских частях сохранялась железная дисциплина, то в 12-й армии имел место случай массового неповиновения. 17-й Сибирский полк отказался идти в атаку, после чего пришлось окружить его надежными войсками. Несколько десятков зачинщиков были арестованы, а к остальным со словами увещевания обратился протопресвитер армии и флота отец Георгий Шавельский. Солдаты выразили раскаяние и вскоре действительно искупили вину кровью. Кровь во спасение Обобщая итоги последнего сражения императорской армии можно прийти к целому ряду выводов. По умению планировать наступательные операции в условиях позиционной войны русские генералы обошли всех своих союзников и противников. Уровень подготовки войск в принципе не уступал германскому: во всяком случае, численное превосходство 12-й армии в начале сражения компенсировалось тем, что противник находился в обороне. Учитывая, что по боевым качествам наши солдаты превосходили и турок, и австрийцев (это отмечали все мемуаристы и исследователи), немцы оставались единственным серьезным противником. Но ведь людские резервы России раза в два превосходили людские резервы Германии! К тому же у нас были такие союзники, как Англия, Франция, Италия! С другой стороны, русской армии предстояло иметь дело еще и с такими противниками, как усталость и малодушие. Насколько глубоко пустили они свои корни? Если судить по эпизоду с 17-м Сибирским полком, достаточно было разумного сочетания методов убеждения и принуждения. Хотя, когда речь шла о частях, состоявших из новобранцев, больший акцент приходилось делать на принуждении… В любой армии и тем более в условиях войны всякая попытка неповиновения должна караться самым суровым образом. Примером тому стали события во Франции в июле 1917 года, когда целые дивизии, вместо того чтобы сражаться с немцами, двинулись к Парижу устраивать революцию. Мятежников разгромили: 39 человек казнили и около 500 отправили на каторгу. Не смущаясь нехваткой доказательств, расстреливали и тех, кого подозревали в связях с противником, – владельцев и редакторов газет, бизнесменов и просто темных личностей (вроде Маты Хари). Скорее всего, аналогичные меры могли бы предотвратить и развал российской армии, а соответственно и приход большевиков к власти. Но в феврале 1917 года вопрос о том, сколько именно следует пролить крови соотечественников, чтобы выиграть войну и спасти державу, еще не казался особенно актуальным. Союзная конференция Союзники прекрасно представляли себе и сильные, и слабые стороны русской армии. Они знали об увеличении военного производства, о формирующихся дивизиях, батареях, авиа- и бронеотрядах. Знали они и про нездоровую обстановку в тылу, однако ситуация на фронте, казалось, не давала особых поводов для беспокойства. И вот, словно наслушавшись русских «авось», британский посол Джордж Бьюкенен выдает следующий «анализ» ситуации: «Россия является страной, обладающей счастливой способностью своего рода опьянения, и моя единственная надежда состоит в том, что она выстоит вопреки всему при условии, что мы будем оказывать помощь». Для обсуждения конкретных форм военной помощи и сотрудничества в феврале 1917 года высшие представители союзного командования собрались на конференцию в Петрограде. Генерал Гурко-Ромейко, временно заменявший заболевшего Алексеева, безусловно, солировал и сразу же поставил вопрос ребром: «Должны ли будут кампании 1917 года носить решительный характер?» Союзники подтвердили, что именно в 1917 году Антанта собирается войну выиграть. Далее начались споры о том, кто именно будет наступать первым. В конце концов, этот «крест» пришлось взять на себя англичанам и французам. Русские обещали начать после 15 мая, когда завершится формирование 50 новых дивизий. Впрочем, Гурко особенно подчеркивал, что наше наступление будет носить вспомогательный характер и преследовать скромную цель – оттянуть с Западного фронта часть германских соединений. На самом деле союзникам вешали лапшу на уши. Вместо того чтобы отвлекать на себя сильную немецкую армию, Алексеев и Гурко собирались повторить «брусиловский прорыв», только в еще большем масштабе. В случае успешной реализации замысла наши войска должны были окончательно добить Австро-Венгрию, освободить Сербию и овладеть Стамбулом-Константинополем, который со времен Петра Великого являлся «идеей фикс» российской внешней политики. Таким образом, Россия получала все призы, на которые могла рассчитывать. А союзникам не только пришлось бы смириться с превращением Балкан в российскую провинцию, но еще и умолять Николая II помочь им поскорее добить Германию… Иностранные гости, видимо, догадывались, что Петроград собирается вести собственную игру, но своих подозрений не высказывали. В конце концов, единственное, что требовалось от России, – это сохранить верность Антанте. Да и стоило ли вообще делить шкуру неубитого медведя? Тем более что уверенности в силе русской армии у союзников так и не сложилось. Во всяком случае, посетивший Восточный фронт французский генерал Ноэль Кастельно 20 февраля 1917 года записал в своем дневнике: «Дух войск показался мне превосходным, люди сильные, хорошо вытренированные, полные мужества, с прекрасными светлыми и кроткими глазами, но высшее командование плохо организовано, вооружение совершенно недостаточное, служба транспорта желает много лучшего. И что, может быть, еще важнее, очевидна слабость технического обучения. В русской армии недостаточно освободились от устаревших методов; она отстала больше чем на год от западных армий; русская армия сейчас неспособна провести наступление в большом масштабе». Корабль, затонувший перед гаванью Вполне вероятно, что Февральская революция сорвала в 1917 году разгром Австро-Венгрии и Турции. С другой стороны, даже если бы столь масштабная задача оказалась не по плечу русской армии, ничто не мешало ей хотя бы удерживаться на своих прежних позициях. Тем самым главная тяжесть борьбы перекладывалась на плечи союзников, однако в ноябре 1918 года Россия все равно оказалась бы в лагере победителей (и, следовательно, почти наверняка получила бы вожделенный Константинополь). Неслучайно такой компетентный участник событий, как Уинстон Черчилль, писал в своих мемуарах: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена завладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления закончились; снарядный голод побежден; вооружение притекало широким потоком; более сильная, более многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт, тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией, и Колчак — флотом… Царь был на престоле; Российская империя и русские армии держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна». Эту бесспорную победу у русской армии украли амбиции политических лидеров, которые, стремясь к власти, умышленно разлагали дисциплину, играли на чувствах трусости и усталости. Не обошлось здесь и без разлагающей вражеской пропаганды, хотя роль немецких денег оказалась минимальной. Во всяком случае, для германского генералитета стремительный развал российских вооруженных сил стал приятной неожиданностью. Впрочем, как выяснилось, их радость также оказалась преждевременной. И здесь следует еще раз процитировать Эриха Людендорфа: «Сколько раз я мечтал о том, что русская революция облегчит наше военное положение, но эти чаяния всегда оказывались воздушными замками; теперь революция наступила, и наступила внезапно. Огромная тяжесть свалилась у меня с плеч. Тогда я еще не считал возможным, что в дальнейшем она подорвет и наши силы». В качестве эпилога следует сказать о дальнейшей судьбе генерала Радко-Дмитриева, в которой, как в зеркале, отразилась трагедия всей царской армии. Рождественское наступление 1917 года стало его последним триумфом. Временное правительство отправило командарма-12 в отставку, после чего, вместе с другим отставником и своим бывшим начальником генералом Рузским, он отправился на юг для лечения. Здесь заслуженные военачальники попали в число заложников и 18 октября 1918 года были зарублены чекистами в Пятигорске. Существует свидетельство, что перед смертью Рузский кричал: «За меня отомстят! Запомните: моя фамилия Ру-с-с-кий!» Радко-Дмитриев принял смерть молча. Дата публикации: 25 января 2007
Теги: первая мировая война война
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~ot2V3
|
Последние публикации
Выбор читателей
|