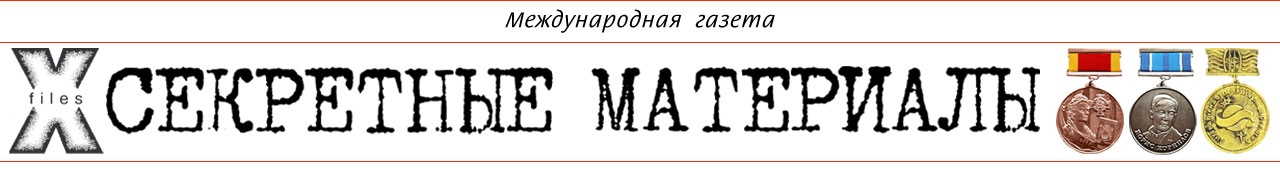|
ЖЗЛ
Австралийская судьба русского авиатора
Геннадий Черненко
журналист
Санкт-Петербург
2926

Зверева и Слюсаренко
После революции, в годы Гражданской войны многие русские авиаторы покинули родину, рассеялись по всему миру. Один из первых военных летчиков Евгений Руднев оказался во Франции. Отважный летчик-казак Вячеслав Ткачев переехал в Сербию. Изобретатель и авиатор Сергей Ульянин эмигрировал в Англию. Боевой морской летчик Александр Прокофьев-Северский остался в США. Там же, в Америке, жил и окончил свои дни авиатор Александр Кованько, сын знаменитого генерала. Но дальше всех, в Австралию, судьба занесла Владимира Слюсаренко.
ГАТЧИНСКИЙ АЭРОДРОМ В России начала прошлого века, в годы, когда рождалась отечественная авиация, не было еще своих авиационных школ. Центром авиации тогда по праву признавалась Франция. Первые авиаторы (многих стран) учились летать во французских авиашколах Блерио и Фармана. Летом 1910 года в Гатчине, под Петербургом, открылась первая в нашей стране военная авиационная школа. Там обучались полетам офицеры. Гражданским же лицам, мечтавшим научиться летать, по-прежнему оставалось одно: ехать за границу. Положение изменилось к лучшему, когда в ноябре 1910 года на Гатчинском аэродроме Российским товариществом воздухоплавания была основана частная авиационная школа для всех, кто имел средства и желание стать авиатором. Владимиру Слюсаренко шел двадцать второй год от роду, когда он серьезно «заболел» авиацией. Произошло это во время «Всероссийского праздника воздухоплавания». Такое название получили авиационные состязания, состоявшиеся в Петербурге осенью 1910 года на Комендантском аэродроме. В состязаниях могли участвовать только русские летчики. Были среди них знаменитости вроде Михаила Ефимова и Сергея Уточкина, но большинство составляли малоизвестные и совсем еще не известные авиаторы, только что возвратившиеся после учебы из Франции. Помощниками на аэродроме служили добровольцы — студенты петербургских вузов. Одним из них был Владимир Слюсаренко, студент-третьекурсник механического отделения Технологического института. Он работал в качестве механика при аэропланах. Тогда-то и зародилась у него страстная мечта стать авиатором. Даже трагический случай во время «праздника», ужасная смерть авиатора капитана Мациевича, машина которого разрушилась в воздухе, на высоте 400 метров, не отпугнула его от авиации. ЛЕТАЮЩАЯ БАРЫШНЯ Владимир Слюсаренко не был коренным петербуржцем. Сын капитана (будущего генерала) Виктора Алексеевича Слюсаренко он родился в Дагестане, где находилась и участвовала в боях с горцами артиллерийская бригада его отца. Учиться же Владимиру пришлось в Орле, в тамошнем кадетском корпусе. По стопам своего отца и деда (тоже военного, генерала) он не пошел, выбрал профессию инженера. Так в 1907 году он оказался в Петербурге. В Гатчинскую авиационную школу он записался одним из первых. Сообщая о начале обучения в этой школе и ее учениках, журнал «Аэро и автомобильная жизнь» писал: «Между ними одна барышня, первая русская женщина-авиатор». Имелась в виду Лидия Виссарионовна Зверева. Она была на два года младше Владимира, происходила из генеральской семьи и полетами увлеклась очень рано, по ее собственным словам, «когда в России еще никто не летал и только в газетах начали изредка появляться первые вести об успехах заграничных авиаторов». На заре авиации, пожалуй, не было занятия более рискованного, чем полеты на аэропланах. Чуть ли не ежедневно отовсюду приходили вести об авиационных катастрофах, увечьях и гибели летчиков. Несмотря на это, Лидия Зверева решила стать авиатриссой. Неизвестно, были ли знакомы Владимир и Лидия раньше, но в школе они уже считались женихом и невестой. «Петербургская газета» писала о них: «Молодые люди дали себе слово пожениться только в том случае, если оба получат пилотское звание». Слюсаренко смело осваивал опасную профессию. В мае 1911 года он, в качестве пассажира, и авиатор Шарский попытались совершить перелет из Петербурга в Гатчину, но в пути потерпели аварию. Самолет упал в лес. Шарский был ранен, Слюсаренко отделался ушибами. ВОЗДУШНЫЙ МАРАФОН Месяц спустя, 16 июня, на Гатчинском аэродроме Слюсаренко держал экзамен на звание пилота перед комиссией Императорского Всероссийского аэроклуба. Согласно правилам, он поднялся на высоту 60 метров и описал в воздухе над летным полем пять «восьмерок». Затем — точная посадка и вновь — взлет на ту же высоту, опять «восьмерки» и вторая посадка как можно ближе к центру круга, нарисованного на поле. Все эти эволюции экзаменующийся легко выполнил, и через пару дней ему был торжественно вручен диплом пилота-авиатора, 23-й по счету из выданных в России, заветные корочки в сафьяновом переплете. В те годы авиатор, получив «бреве» (так по-французски пилоты назвали диплом), сразу мог начинать учить других. Вот и Слюсаренко, едва став дипломированным авиатором, стал учителем Лидии Зверевой. И это принесло плоды. Она сдала пилотский экзамен 10 августа 1911 года, то есть всего на два месяца позже своего жениха и ровно через месяц после исторического перелета Петербург — Москва. Одна из столичных газет с удивлением восклицала: «Перелететь из Петербурга в Москву! От этих слов веет какой-то сказкой!» И правда, перед авиаторами стояла тяжелейшая задача пролететь над глухими лесами, болотами, реками и возвышенностями более 700 километров, не имея хорошо подготовленных промежуточных аэродромов, без четких ориентиров. В перелете приняли участие девять авиаторов, и среди них — Владимир Слюсаренко. «Против них — все, за них, быть может, только счастье слепое», — писала газета. Слюсаренко объявил, что полетит с пассажиром, точнее, с пассажиркой, Лидией Зверевой. Ему достался аэроклубовский «Фарман». Совершив на нем несколько пробных полетов над аэродромом, Слюсаренко увидел, что машина отрегулирована плохо, неустойчива, идет неровно. Однако желание отправиться в дальний перелет было настолько сильно, что он решил лететь и на такой машине. РОКОВОЙ ПОЛЕТ В три часа утра 10 июля 1911 года на Комендантском аэродроме прозвучал стартовый пушечный выстрел. Перелет начался. Первым поднялся на моноплане «Блерио» Сергей Уточкин. За ним — другие авиаторы. Слюсаренко со Зверевой взлетел в 6 часов 38 минут утра, пересек стартовую линию, сделал положенный круг над летным полем и, поднявшись на высоту двухсот метров, взял курс на взморье. Прошло всего минуты три, и собравшиеся на аэродроме увидели: биплан Слюсаренко возвращается. Оказалось, что неустойчивость аэроплана увеличилась. К тому же мотор также вел себя подозрительно. Авиатор, не желая рисковать, благоразумно решил вернуться на аэродром. Старт Владимиру Слюсаренко был засчитан, и теперь он мог возобновить свой полет в любой момент. Но прежде надо было заменить мотор и как следует отрегулировать машину. Свободный мотор нашелся у Константина Шиманского, выдержавшего экзамен на звание авиатора всего за два дня до перелета. Он был готов дать мотор, однако с условием, что полетит пассажиром, и Слюсаренко пришлось согласиться к большому огорчению Лидии Зверевой. «Фарман» Слюсаренко вторично поднялся с Комендантского 12 июля в 4 часа 10 минут утра. Теперь сзади, за плечами пилота, сидел Шиманский. Погода выдалась прекрасная. Самолет шел спокойно. Ничто не предвещало беды. Авиаторы миновали взморье, преодолев трудную часть пути, благополучно выбрались к Московскому шоссе и полетели над ним, на высоте ста метров. Крестьяне деревни Московская Славянка с любопытством следили за приближающейся механической птицей, как вдруг заметили, что она начала терять высоту и будто ступеньками опускаться все ниже и ниже. Когда до земли оставалось метров 15—20, аэроплан, подхваченный сильным порывом ветра, перевернулся и упал на поле вверх колесами. «Раздался треск, — вспоминал Слюсаренко, — я ударился обо что-то твердое и потерял сознание». ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИИ Биплан был разбит вдребезги. Куски его отлетели далеко в стороны. Оба авиатора оказались под обломками машины. К месту падения самолета со всех сторон бежали местные жители. Результаты катастрофы оказались ужасными. Шиманский лежал мертвым с окровавленным лицом. Сорвавшийся при падении аэроплана мотор проломил ему голову. Он стал третьей жертвой авиации в России. У Владимира Слюсаренко был перелом левой ноги у самого колена и сильные ушибы тела. Вскоре явился исправник, чуть позже прибыла врачебная помощь. Раненого авиатора и труп его несчастного пассажира отправили в Царскосельский дворцовый госпиталь. Разбившуюся машину осмотрели технические комиссары перелета. Поломанные части аэроплана погрузили на подводы и повезли в Петербург. Как потом рассказывал Слюсаренко, все началось с того, что мотор начал давать перебои, а затем и вовсе заглох. Пришлось искать место для вынужденной посадки. Шиманский, по словам Слюсаренко, сильно занервничал, начал вырывать рычаг управления, обхватил шею пилота руками. Все это, а также порывистый ветер и стали причиной трагедии. Следует сказать, что аварии потерпели многие участники злополучного перелета. Невдалеке от Петербурга упал Кампо-Сципио. У Тосно разбил свой аэроплан Масленников. У Крестцов совершил аварийную посадку и получил при этом тяжелые ранения Уточкин. На пути к Москве вышли из строя машины Агафонова, Лерхе, Костина и Янковского. И только одному единственному авиатору, Александру Васильеву, удалось (понятно, с промежуточными посадками) долететь до цели. На это ему понадобилось более суток! АВИАТУРНЕ
Не пройдя ни одного полного этапа, на которые был разбит долгий путь к Первопрестольной, Слюсаренко прав на призы не имел, но получил от организаторов перелета полторы тысячи рублей на лечение. Оно было долгим. Только к осени 1911 года Слюсаренко выписался из госпиталя. Он жаловался на боли в ноге, ходил прихрамывая и все же в начале следующего, 1912 года снова поднялся в небо. В те времена авиаторы с целью заработка отправлялись в турне по городам России. На авиацию люди смотрели еще как на чудо. Да и не везде видели летящий аэроплан. Полеты устраивались обычно на ипподромах или на огороженных забором «аэродромах». Туда продавались билеты. Но многие горожане предпочитали смотреть полеты бесплатно, забравшись на крыши домов или стоя на улице. Зимой 1912 года Владимир Слюсаренко и Лидия Зверева вместе с однокашниками по авиашколе Александром Агафоновым (студентом-технологом) и Петром Евсюковым (студентом Горного института) отправились в турне по югу России. Летали в Баку и Тифлисе. Погода не баловала. Сборы были скромными. «Тифлисский листок» писал: «Уныло бродят авиаторы: расходы не окупаются, в кассе — гроши». Но полеты не отменялись даже при сильном ветре. «Красиво и смело летали во вторник, — сообщала газета 23 февраля. — Да, действительно, человек становится господином воздуха!» Авиаторы покинули Тифлис в конце февраля. Владимир и Лидия возвратились в Петербург, но пробыли там недолго и в марте вместе с авиаторами Федором Колчиным и Михаилом Григорашвили отправились на полеты в Ригу. Один из полетов здесь едва не закончился катастрофой. Поднялись с ипподрома. Аэропланом управляла Зверева. Слюсаренко летел пассажиром. На высоте ветер начал сносить машину к трибунам, заполненным зрителями. Зверева, стараясь посадить аэроплан в пределах ипподрома, сделала резкий маневр, и «Фарман» при посадке опрокинулся. ЗАВОД НА РОМАНОВСКОЙ «У всех невольно вырвался крик ужаса, — писала газета «Рижский вестник», — ибо никто не сомневался, что авиаторы погибли». К счастью, этого не случилось, но после аварии в Риге здоровье первой русской летчицы стало ухудшаться. «Еле жива,— писала она в одном из писем. — При падении чуть не сломала ногу. До сих пор чувствую боль... Вот она судьба авиаторская». Владимир и Лидия стали мужем и женой. По характеру энергичная и решительная Лидия Виссарионовна стремилась не только летать, но и создавать самолеты. Владимир Викторович полностью разделял эти устремления своей жены. Осуществить задуманное оказалось легче не в Петербурге, а в Риге. В апреле 1913 года супруги Слюсаренко получили разрешение лифляндского губернатора основать на Романовской улице, в доме №76 «мастерскую для сборки аэропланов». А в Зассенгофе, близ Риги, на аэродроме завода «Мотор» ими была открыта авиационная школа. Уже в марте 1913 года из мастерской Слюсаренко вышли первые аэропланы, заказанные военным ведомством. Вскоре мастерская превратилась в небольшой завод. Самолеты строились здесь по типу французского двухместного «Фармана-16», но со значительными усовершенствованиями в конструкции. Они имели обтекаемую кабину, приборы, мягкие сиденья и запас бензина на восемь часов полета. «Выкрашенные под крем, — писал корреспондент «Рижского вестника», — эти новенькие, чистенькие аэропланы и по внешнему виду производят самое хорошее впечатление». Испытывал построенные машины сам Владимир Слюсаренко. Он же был инструктором в своей авиационной школе, а кроме того, для тренировки совершал на взморье публичные полеты, катал пассажиров. Летала в Риге и Лидия Виссарионовна — одна и с мужем. СЛУЧАЙ НА ВЗМОРЬЕ Устраивались и перелеты. Например, из Зассенгофа в военный лагерь, на расстояние трех десятков километров, для демонстрации возможностей аэроплана. Один из полетов Слюсаренко на взморье в Эдинбурге едва не закончился трагически. Перед самой посадкой навстречу самолету из толпы неожиданно выскочил маленький мальчик. Пилот замедлил с выключением мотора и налетел на пляжные кабинки, в которых отдыхали ничего не подозревавшие дамы. Одна из них была легко ранена, две другие получили ушибы. Пострадавшие подали в суд, но дело завершилось примирением и уплатой авиатором компенсации в размере 225 рублей. Кроме того, теперь Слюсаренко должен был производить полеты на взморье только с разрешения полиции. Когда началась Первая мировая война, свой завод супруги перевели в Петроград. Они получили новый военный заказ на постройку самолетов. На предприятии работали около 300 рабочих. За два года завод выпустил более сотни машин — «Фарманов» и «Моранов». Известно, что на Комендантском аэродроме в годы войны испытывался истребитель Слюсаренко, развивавший немалую для тех лет скорость полета — свыше 160 километров в час. Строился также оригинальный двухмоторный самолет-разведчик. Но время было совершенно неподходящим для экспериментов. Газеты писали об упорных боях, о налетах цеппелинов, растущей дороговизне, эпидемиях. Весной 1916 года Лидия Виссарионовна заболела брюшным тифом, и утром 2 мая ее не стало. Она умерла в возрасте всего 26 лет. Две-три петербургские газеты поместили сообщения о смерти Лидии Слюсаренко. Некрологов не было. Похороны на Никольском кладбище Александро-Невской лавры прошли незаметно. Владимир Викторович был подавлен этим несчастьем и отошел от дел завода. Он остался с малолетним сыном Игорем. Уже говорилось, что судьба занесла его в Австралию. Как он оказался в этой далекой стране, какие перипетии ему довелось пережить, выяснилось только недавно. Автору этих строк удалось узнать, что в Сиднее живет племянник авиатора, инженер Юрий Георгиевич Слюсаренко. Завязалась переписка, и прояснилось многое. ПЕТРОГРАД — АРХАНГЕЛЬСК — ХАРБИН Отец Юрия Георгиевича, Георгий Викторович, — родной брат авиатора Слюсаренко. Георгий Викторович тоже был пилотом. Он окончил в 1914 году знаменитое Николаевское инженерное училище и годом позже — школу военных летчиков в Гатчине. После Октябрьского переворота служить новому строю братья Слюсаренко не пожелали и потому оказались в Архангельске, в британском экспедиционном корпусе. Сына Владимира Викторовича, Игоря, забрала бабушка, мать Лидии Виссарионовны. Обратного хода не было. Из Архангельска по северным морям и Оби братья попали в Омск. Оттуда вместе с отступающей армией Колчака они добрались до Маньчжурии и осели в Харбине. Владимир Викторович женился вторично на Клавдии Васильевне, к авиации никакого отношения не имевшей. В Харбине они прожили всего несколько лет и затем уехали в Австралию искать лучшей доли. Удалось ли ее найти, трудно сказать. Поселились в Сандгэйте, пригороде Брисбена, крупного портового города на восточном побережье Австралии. Владимир Викторович начал работать механиком по ремонту автомобилей в частном гараже «Матильда» на улице Райнбоу. Благо он имел не только инженерный диплом, но и немалый опыт в обслуживании моторов. Позже он выкупил этот гараж и стал его владельцем. Казалось, что с авиацией ему пришлось навсегда расстаться. Однако на самом деле это было не так. Не мог Билл Слюсар, как называли Владимира Слюсаренко в Австралии, жить без любимого дела, без полетов. В 1927 году он проектирует и строит авиетку, небольшой одноместный самолет. В честь городка, в котором жил, Слюсаренко назвал авиетку «Мисс Сандгэйт». На этом самодельном самолете он летал долго, пока позволяло здоровье. Братья Слюсаренко не виделись более 30 лет и только в 1959 году встретились снова. Георгий Викторович вместе со своей семьей тоже эмигрировал из Китая в Австралию. Местом жительства выбрали Сидней, расположенный в семистах километрах от Брисбена. В авиацию Георгий Викторович больше не вернулся, работал инженером-теплотехником в проектной организации. ВОЗРОЖДЕННЫЙ РАРИТЕТ В 1961 году исполнилось 50 лет, как состоялся первый перелет Петербург — Москва. Журнал «Огонек» опубликовал очерк об этом событии. Спустя некоторое время в редакцию журнала пришло письмо из Австралии, от Слюсаренко. Старый авиатор (ему было тогда уже за семьдесят) благодарил за память о тех, кто имел отношение к зарождению русской авиации, о ее пионерах. «Спасибо за то, что в век спутников Вы вспомнили о нас — стариках, — писал он. — Не знаю, жив ли еще кто-нибудь из участников перелета, но за всех живых и мертвых я шлю Вам мое искреннее спасибо». Он хотел в связи с юбилеем перелета приехать на свою родину, хотел рассказать о пережитом на заре авиации. Просил только оплатить дорогу туда и обратно. Для него, небогатого и старого человека, это было важно. Просьбу советские власти сочли неприемлемой и ответили отказом. Последние годы жизни супруги Слюсаренко провели в доме престарелых. Им требовался ежедневный уход, а своих детей у них не было. К слову сказать, единственный сын Владимира Викторовича, Игорь, погиб в 1942 году при обороне Москвы. Умер Владимир Викторович в 1969 году. Клавдия Васильевна пережила его на четыре года. Как вспоминает племянник авиатора, Юрий Георгиевич, супруги Слюсаренко были известны в Сандгэйте своей отзывчивостью и гостеприимством. Они внесли свой вклад в строительство первого православного храма в Брисбене — Св. Николаевского собора. Любопытна судьба самолета, построенного Слюсаренко. В начале 60-х годов Владимир Викторович продал свою авиетку некоему Кеву Вилсону, и много лет она простояла, постепенно ветшая. Уже после смерти Слюсаренко друг Кева Лен Нил увидел старую машину и предложил восстановить ее. Потребовалось пять лет упорного труда для того, чтобы «Мисс Сандгэйт» снова смогла подняться в небо. Самолет летает до сих пор. И это — лучшая память о его конструкторе, русском летчике с австралийской судьбой. Дата публикации: 15 мая 2007
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~7XGRd
|
Последние публикации
Выбор читателей
|