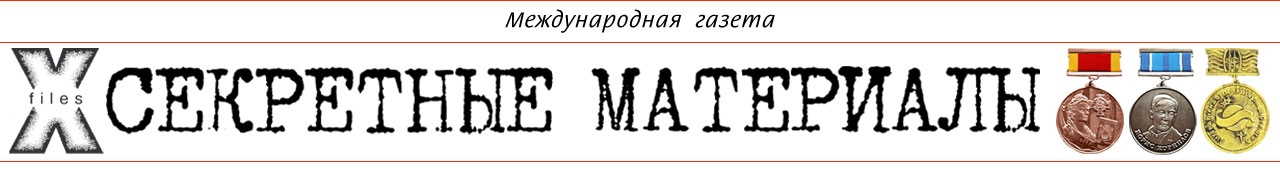|
ЖЗЛ
«Секретные материалы 20 века» №15(401), 2014
«Простите пехоте...»
Василий Соколов
публицист
Санкт-Петербург
3351

20-летие журнала «Юность». Выступление Булата Окуджавы. Фото: Сергей Васин. 10 июня 1975
О том, что поэт должен быть и гражданином, писали еще в позапрошлом веке. Не будем давить читателя авторитетами Пушкина и Некрасова, заглянем в относительно недалекое прошлое: ровно полвека тому назад Евгений Евтушенко сочинил «Молитву перед поэмой», которая начиналась знаменитыми строками: «Поэт в России – больше, чем поэт». Да, в 1964-м и после, на протяжении примерно трех десятков лет, советские, а потом просто российские поэты действительно были властителями дум, некоронованными королями свободомыслящей молодежи и отечественной интеллигенции. В середине минувшего века концертные залы – да что там залы! – стадионы заполняли страстные почитатели поэзии. Пышным цветом расцвело такое уникальное явление, как бардовская песня, авторы-исполнители стали народными кумирами. Были среди них всякие – душой и сердцем преданные делу строительства коммунизма, искренне верившие в победу идей Маркса, Энгельса, Ленина и ненавидящие Сталина, были и «злобствующие антисоветчики», и будущие диссиденты, а также певцы чистой любви. Был среди этой славной когорты человек, который соединил в себе и своем творчестве все эти порой противоречащие друг другу черты. Произошло это потому, что жизнь его впитала в себя все противоречия нашей эпохи. Звали этого человека Булат Шалвович Окуджава. В этом году ему исполнилось бы девяносто лет… ЮНЫЕ ГОДЫ Булат родился 9 мая 1924 года. И целых двадцать лет даже не подозревал, что двадцать первый день рождения он будет праздновать в День Победы. Однако не будем спешить и начнем рассказ об этом необыкновенном человеке с его детских лет. Он родился, как принято теперь говорить, в благополучной семье. Папа – Шалва Степанович, грузин, крупный партийный деятель, мама – Ашхен Степановна Налбандян, армянка. Сын Булат родился в Москве, куда родителей отправили на учебу в Коммунистическую академию. Однако вскоре отца послали комиссарить на Кавказ, а мама работала в московских партийных структурах. Отец из комиссаров вырос в секретари Тбилисского горкома партии, и семья переехала к нему. Мальчик Булат учился в столичной русской школе. Однако вскоре, как говорят, его отец вступил в неприязненные отношения с самим Лаврентием Павловичем. Это вынудило его уехать из родной Грузии на Урал, где он возглавил Нижнетагильскую городскую парторганизацию. Семья, естественно, отправилась вслед за отцом. Все это относительное благополучие закончилось в роковом 1937 году: Шалву Степановича арестовали и уже в августе того же года расстреляли. Семья в составе мамы, бабушки и Булата перебралась в Москву. Можно предположить, что переезд в столицу СССР состоялся не без помощи товарищей отца по партии. Однако и это не спасло Ашхен Степановну от ареста в 1938 году. Удар был сильнейший. Вот как об этом вспоминал сам поэт: «Я, красный мальчик, пребывал в крайнем отчаянии, пока моя тетка, чтобы облегчить мои страдания, не поведала мне шепотом, что мои родители на самом деле тайно отправлены на Запад для выполнения особых партийных поручений, а их арест – просто необходимый камуфляж. Я был спасен, лишний раз получив подтверждение, что наши славные чекисты не ошибаются». Однако эти обстоятельства вынудили Булата в 1940 году покинуть коммунальную квартиру на Арбате и переехать к родственникам в Тбилиси. Там он учился, работал токарем на заводе, а в апреле 1942 года, шестнадцати лет от роду, отправился добровольцем на фронт. Так начался следующий этап биографии Окуджавы. ВОЙНА… Испытав в неполные семнадцать лет все «прелести» жизни, окунувшись в войну, Булат все равно оставался мальчишкой, но мальчишкой непростым: он генетически впитал в себя культуру Кавказа, познакомился с жизнью русской глубинки и душой привязался к московскому Арбату. А ведь хорошо известно, что впечатления юных лет – самые сильные, они оказывают громадное влияние на формирование характера каждого человека. Потому не случайны в творчестве Окуджавы и «комиссары в пыльных шлемах», и Ленин «выходит навстречу, всегда аккуратен и собран, невысокого роста, приветлив и скромно одет». Но об этом – позже, а пока – война… Есть страшные статистические данные о боевых потерях в пехоте: из призывников 1922–1924 года рождения, попавших на фронт в 1941 году, в живых остались всего лишь три процента! Можно сказать, что Окуджаве «повезло»: во-первых, на фронт он ушел в 42-м, во-вторых, воевал не в пехоте, а в минометной батарее и тяжелой артиллерии, в-третьих, был ранен и лежал в госпиталях, попал в резервные части… Сам поэт к этому «везению» относился весьма иронично. Вот что он написал в «Душевном разговоре с сыном»: «Когда на земле бушевала война / И были убийства в цене, / Он раной одной откупился сполна / От смерти на этой войне…» А вот как сам он вспоминал почти полвека спустя о своем ранении: «Над нашими позициями появился немецкий корректировщик. Летел он высоко. На его ленивые выстрелы из пулемета никто не обращал внимания. Только что закончился бой. Все расслабились. И надо же было: одна из шальных пуль попала в меня. Можно представить мою обиду: сколько до этого было тяжелых боев, где меня щадило! А тут в совершенно спокойной обстановке – и такое нелепое ранение». Конечно, иронизировать можно сколько угодно, но следует всегда иметь в виду, что та война была великой и страшной и не могла не отразиться не только на характере и психологическом состоянии участников, но и, вполне естественно, на творчестве ее участников – если они таковым были в состоянии заниматься. …И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ Исследователи творчества Окуджавы отмечают, что первое стихотворение-песню Булат написал еще в 1943 году. Тогда он был ротным запевалой, и называлась песня «Нам в холодных теплушках не спалось». Текст ее не сохранился, да и сам поэт не считал ее своим первенцем. Вот что он сам рассказал: «Однажды студентом я написал для своих друзей песню «Неистов и упрям, гори, огонь, гори…». Она была печальна, как многие старые студенческие песни. Было это в 1946 году. После этого я десять лет не думал о песнях. Теперь она, наверное, не лучшее из моих созданий, но она – первая. Этим и дорога». С этого момента Окуджава пишет много, печатается в районных газетах, но эти стихи были тем, что сейчас мы назвали бы конъюнктурой: пишет к праздникам (особенно к Первомаю), «датские» стихи (приуроченные к госпраздникам и прочим датам). И только обращение к военной тематике сделало его настоящим поэтом. С этими песнями он и выходит на сцену. А перед этим – учится играть на гитаре. Однако ни певцом, ни песенником он себя не считал: «Выступая перед публикой, я не случайно говорю: «Вы услышите стихи под гитару». Главное в авторской песне – поэзия; музыка ей служит, является вспомогательной». Он пел свои скромные лирические песни, пел, так сказать, песни пацифистские. Нет, не пел – читал речитативом свои стихи. И в них отчетливо звучала война. Даже в пронзительной песне-балладе о Смоленской дороге: «По Смоленской дороге – метель в лицо, в лицо, / Всё нас из дому гонят дела, дела, дела. / Может, будь понадежнее рук твоих кольцо – / Покороче б, наверно, дорога мне легла». Но самая потрясающая песня о войне – это, вне всякого сомнения, песня из кинофильма «Белорусский вокзал». Вот что писал о ее истории сам Окуджава: «Дело в том, что фильм требовал стилизации текста под стихи военного времени. По мысли режиссера, стихи должны исходить не от профессионала, а от человека, сидящего в окопе и пишущего для однополчан о своих друзьях. Мне казалось, что у меня стилизации не получится, поскольку я всегда стремился писать о войне глазами человека мирного времени. А тут надо было сочинять словно «оттуда», из войны. Но тогда, на фронте, мы совсем по-другому думали, по-другому говорили и по-своему пели. Отыщу ли я слова тех лет? И вдруг «сработала» память. Неожиданно вспомнился фронт. Я как бы воочию увидел этого самодеятельного фронтового поэта, думающего в окопе об однополчанах. И тут же сами собой возникли слова будущей песни «Мы за ценой не постоим...». Кстати, эти слова в наши дни часто звучат в речах псевдолибералов, пытающихся подвергнуть сомнению «целесообразность понесенных в войне жертв». Песня получилась. И я почти не знаю мужчин, у которых бы не выступили на глазах слезы, когда в финале фильма начинает звучать: «Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут». Мелодия этой песни тоже принадлежит Окуджаве. Иной и быть не могло – это признал даже такой мощный композитор, как Альфред Шнитке, написавший музыку к фильму. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Говоря о песнях Окуджавы в кино, нельзя не вспомнить изумительного композитора Исаака Шварца. Огромное количество песен, в основном для кино, написал он на стихи Булата Шалвовича. Их связывало совершенно невероятное творческое единомыслие, что признавал сам поэт. Не будем перечислять здесь все эти произведения – их десятки. Лучше прочитаем еще раз стихи Окуджавы, посвященные Исааку Шварцу: «Музыкант играл на скрипке – я в глаза ему глядел. / Я не то чтоб любопытствовал – я по небу летел. / Я не то чтобы от скуки – я надеялся понять, / Как способны эти руки эти звуки извлекать / Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, / Из какой-то там фантазии, которой он служил? // Да еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать когда, / Чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда. / Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь… / А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?» Очень редко случается так: то, что не под силу было вынести на высочайший уровень слабому (физически!) голосу поэта и его бренчащей гитаре, удалось этому великолепному дуэту. Вот она, ваше благородие, госпожа удача! С БОЕМ, КАК НА ФРОНТЕ Выступать он начал в 1960 году. Первый его концерт прошел на сцене московского Дома кино: «Был субботний вечер отдыха. Никто меня не знал. Громадная сцена, плохой микрофон, запах шашлыка из ресторана, публика такая веселая. Выступает эстрада – кто-то острит, кто-то поет контральто. Потом конферансье объявляет: «Сейчас выступит Булат Окуджава, он споет свои песни». – «Кто такой Булат Окуджава?» Я вышел, на гитаре играть не умею, микрофон плохой. Начал петь – в зале засвистели. Ну, я повернулся и ушел». А ведь запел он тогда свое ныне знаменитое «Ах, война, что ж ты сделала, подлая: стали тихими наши дворы…». Именно слова из этой песни – «До свидания, мальчики» – стали названием романа Бориса Балтера – одного из самых пронзительных произведений советской литературы о юном предвоенном поколении. Не понравилась песня веселящимся сытым деятелям искусства кино; кто-то в зале даже крикнул: «Осторожно, пошлость!» Год спустя первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов на IV Всесоюзном совещании молодых писателей заявил буквально следующее: «…что касается Булата Окуджавы и иже с ним, то уж таким сподручнее делить свои лавры с такими специалистами будуарного репертуара, как Лещенко». Тогда, после ХХ и XXI съездов КПСС, в Советском Союзе уже происходила так называемая «оттепель», но и ее деятели никак не могли воспринять такое грустное, экзистенциалистское отношение к «героическому подвигу советского народа». Уже была почти позволена «окопная» правда о войне, появилась, наряду с «генеральской», и «лейтенантская» проза, но к такой войне, «по Окуджаве», чиновники от искусства не могли и не хотели привыкать. Острой критике подверглась его повесть «Будь здоров, школяр». Официальные лица разносили ее за «цинизм и трусость героев», за «абстрактный гуманизм». Тем не менее она после публикации в альманахе «Тарусские страницы» пользовалась огромной популярностью и даже вдохновила режиссера Владимира Мотыля на создание замечательного фильма «Жена, Женечка и катюша». Но – «Тарусские страницы» были закрыты навсегда, а фильм, в котором Окуджава выступил соавтором сценария и даже снялся в крохотном эпизоде (говорят, даже в собственной фронтовой форме), положили на полку. К широкому зрителю он вышел только благодаря личному вмешательству тогдашнего премьер-министра Косыгина. Тем не менее многочисленные запреты и замалчивания никак не могли сбить высокий градус популярности Окуджавы в народе. Причем происходило это вопреки и официальной, и неофициальной критике. Вот что писала саратовская областная газета: «То, что мы услышали на концерте, дает основание согласиться с критиком Юрием Андреевым, который пишет в первом номере журнала «Октябрь», что Булат Окуджава как мыслитель, как носитель каких-то концепций просто слаб, что гуманизм его абстрактен и лишен отчетливого социального смысла». А хороший детский писатель Лев Кассиль был еще категоричнее: «Его стихи идут под выпивку… вместе с закуской». А Булат Шалвович прорывался сквозь официальную критику с боями и шел навстречу народу, понимавшему и воспринимавшему его. Серая солдатская шинель… «Простите пехоте, что так неразумна бывает она, всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным, по лестничке шаткой (спасения нет)… Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед». ЛИЧНОЕ Стоит ли говорить, что в мои студенческие годы, пришедшиеся на середину шестидесятых, песни Окуджавы были для нас куда больше, чем просто песни? И это притом, что мы, питерские филологи, были даже, я бы сказал, избалованы свободой. Мы читали почти никому не доступного «Доктора Живаго», полузапретные стихи Гумилева, за ночь (потому что велика была очередь!) проглатывали первый «серый» томик Кафки на русском языке, сбегали в Никольский собор на отпевание Анны Ахматовой. Но самым главным был для нас все-таки Булат Окуджава. Мы пели его песни, когда отправлялись осенью «на картошку», пели во время общежитских застолий (но совсем не так, «под закуску», как гаденько говорил Лев Кассиль, – пели от души!), а во время занятий на военной кафедре, маршируя в шеренгах по четверо, вызывающе горланили: «Вы слышите: грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки? Вы поняли, куда они глядят?» Наши кафедральные подполковники злились и требовали «иных строевых песен», и тогда мы, печатая шаг, затягивали: «Девочка плачет: шарик улетел. Ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет: жениха все нет. Ее утешают, а шарик летит». Нас обрывали на куплете про женщину, у которой муж ушел к другой, командой: «Стой! Смирно!», а мы, выполнив приказ, допевали вполголоса: «А шарик вернулся, а он голубой». Кстати, к сведению молодежи: тогда в этот невинный цвет не вкладывали никакого иного смысла. Помню, мы до шипения заездили пластинку-сорокапятку (теперь такие, кажется, называются исконно русским словом «синглы»). С одной стороны была уже упомянутая выше «Смоленская дорога», с другой – излюбленный «Надежды маленький оркестрик под управлением любви». Не знаю, кто сумел так гениально соединить на одном крошечном диске две стороны творчества великого Окуджавы: светлую печаль и отчаянный оптимизм. Конечно, в студенческих своих спорах иной раз мы доходили до нелепостей. Помню, как один наш студент, болгарин по национальности, с пеной у рта доказывал, что Окуджава не знает жизни, ибо пел: «Виноградную косточку в теплую землю зарою». «А ведь виноград сажают черенками!» Но мы простили поэту маленькую сельскохозяйственную погрешность. Как теперь я и многие мои ровесники простили ему – посмертно – некоторые его изменившиеся взгляды на историю нашей любимой Родины и на трагические события девяностых. Но мы простили, потому что он пел: «Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья, А иначе, зачем на земле этой вечной живу». Поэт скончался 12 июня 1997 года – в непонятный праздник независимости. Между его рождением и смертью пролегло несколько эпох – романтическое строительство светлого будущего, мрачный период репрессий, великая и страшная война, «оттепель», застой, перестройка и ее крах, бандитские девяностые – и все это выпало на долю одного человека. И не его вина, что он умирал несколько не таким, каким был в расцвете творческих сил. Перед смертью он крестился в православие, приняв имя Иоанн. Вечная ему память! Поэтический бум, охвативший СССР в конце 1950-х – начале 1970-х, сошел на нет. Увы, это закономерно. Возникли новые моральные ценности, расплодилось слишком много поэтов, и это вызвало общее падение интереса к стихотворчеству. Есть и настоящие поэты, но им все труднее пробить броню тотальной незаинтересованности «широкой публики». Но! Все-таки встают в концертных залах питерцы, когда Александр Городницкий исполняет своих «Атлантов», начинают подпевать, когда звучат песни Юрия Визбора. А давние – шестьдесят седьмого года! – строки Окуджавы – «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» – стали девизом свободомыслящей интеллигенции. Нет, настоящая поэзия, тем более превратившаяся в песню, не умрет никогда. 1 июля 2014
|
Последние публикации
Выбор читателей
|