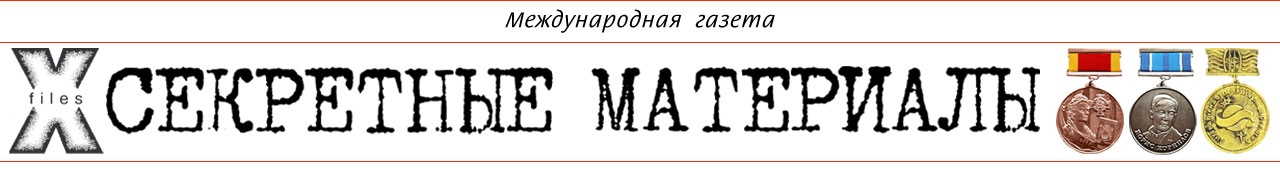|
СССР
Алма-Ата: послесловие к кошмарам
Олег Дзюба
журналист
Москва
5448

Введение войск ОДКБ позволило нормализовать ситуацию в Казахстане. Надолго ли?
В недолгие, к счастью, дни январских алма-атинских кошмаров, когда телеэкраны заполонили толпы, рьяно громившие бывшую столицу Казахстана, я каким-то чудом дозвонился до своей соученицы по университету, некогда названного в честь С. М. Кирова, а в 1990-е переименованного в память о средневековом восточном математике и философе Аль-Фараби, считающегося выходцем из казахских земель. Разговор получился коротким, оборвался на полуслове и свелся к тому, что вся надежда на прибывавшие тогда в Алма-Ату силы ОДКБ, поскольку полиция то ли не справляется, то ли не способна или попросту не в силах что-то предпринимать. По телесюжетам видно было, что протестанты взяли себе в образцы негров из Миннеаполиса, поспешивших при атрофии властей обзавестись телевизорами и многим прочим из разграбленных магазинов… После слов однокурсницы, что в запомнившимся безмятежным городе нашей молодости стало «очень страшно», я спросил: «Как в 86-м?», имея в виду декабрьский бунт молодежи, последовавший после снятия многолетнего, а также в основном успешного партлидера Казахской ССР Динмухаммеда Кунаева и сомнительной замены его на посту первого секретаря местного филиала общесоюзной компартии присланным из центра экс-главой Ульяновского обкома Геннадием Колбиным. Ответ был кратким и пугающим: «Сейчас раз в двадцать хуже!» …После волны погромов в Казахстан пришло затишье, оставляющее, к несчастью, простор для алармизма. А как иначе, если новым министром информации и общественного развития стал ранее лишенный права на въезд в Россию Аскар Умаров, печально прославившийся неуемными претензиями на российские территории да обозвавший некоренное население «навязанной диаспорой». Но оглянемся еще раз на 1986 год. Тогда страсти в республике с виду поутихли, «варяга» Колбина сменил стопроцентно свой Нурсултан Назарбаев, реабилитировавший кое-как наказанных зачинщиков беспорядков, которых стали почитать борцами за свободу. Спорить с этим непросто, так как даже у живущих под одной государственной крышей народов нередко разные герои. Вспомню трагикомичный случай, когда в советском прошлом один из русскоязычных казахстанских поэтов опубликовал поэму о Ермаке, в которой опрометчиво рискнул сблизить имя великого покорителя Сибири и казахское имя Ермек. Злосчастного стихотворца после этого долго будили ночные телефонные звонки и неведомые абоненты с намеренно усиленным казахским акцентом многозначительно обращались к нему: «Ну что, Ермек Тимофеевич, жив еще»? Либо еще круче: «Не пора ли в Иртыш, Ермек Тимофеевич!» …Как бы то ни было, а Назарбаеву удалось главное – удержать нечаянно получившую независимость страну от кровавых катаклизмов, свойственных иным из уголков исчезнувшего СССР, ошалевших от буквально свалившегося с неба права бесконтрольно и кроваво куролесить. Уж где-где, а в Казахстане в отличие от сопредельных территорий Средней Азии и впрямь могли показаться ненаучной фантастикой провидческие строки Александра Городницкого: «Еще набирает политик очки / И дарит на память автограф, / Но в темных глубинах глухие толчки / Внимательный ловит сейсмограф… / Сгорают в закате спокойные дни, – / Назад не вернуться с утра им. /И жирное пламя повальной резни, / Клубясь, долетает с окраин». На фоне бесспорных достижений первого президента Казахстана многие казусы и несуразицы могли показаться мелочами, да их так у нас и предпочитали воспринимать. А это и отток «некоренного населения», и непреклонный курс на истребление русских названий, и более поздняя дорогостоящая затея с переходом с кириллицы на латиницу… Из Монголии целыми автокараванами перевозили этнических казахов, некогда откочевавших за границу, и расселяли их в «русских» областях с не требующими пояснений целями… Официальная цель этого «великого переселения народа» озвучивалась как объединение в одной стране соотечественников, некогда оказавшихся на чужбине в результате катаклизмов ХХ века. Спорить с этим никто в Казахстане всерьез не осмеливался. Упор делался и на то, что, несмотря на формальное тюркское «братство», жить эмигрантам на родине Чингисхана пришлось в самых дальних аймаках, где по общепринятым понятиям цивилизация если и побывала, то задерживаться не сочла нужным. Беда в том, что люди, возвращенные на вроде бы историческую, а фактически условную родину, оказывались в окружении, конечно же, не враждебном, но и не столь уютном, как обещалось. Большинство из них и современный-то казахский язык понимали с трудом, не говоря уже о русском. В прессе сообщали о семьях из Монголии, находивших средства для существования только благодаря тому, что находились желающие взять у них на прокат привезенную с собой праздничную юрту… Я уж не говорю, что путь к более или менее заметным должностям для «некоренного населения» оказался почти перекрыт. Впрочем, подобное наблюдалось и раньше. Хорошо помню, как после очередных выборов в Верховный совет республики «Казахстанская правда» занимала всю первую страницу портретами вновь назначенных министров и сразу бросалось в глаза, что на серьезные министерства типа угольной промышленности, сельского хозяйства или минтяжмаша ставились персоны со славянскими фамилиями, а министерства просвещения или соцобеспечения всегда доставались нацкадрам. Эту позднее возведенную в абсолют особенность кадровой политики в 1990-е годы признал сам Назарбаев, констатировавший в одном из интервью, что казахам непременно нужно занимать руководящий пост: неважно какой, но начальственный! Недаром в обеих языковых общинах популярным давным-давно стало казахское слово «баскарма», в буквальном переводе означающее «начальник», но воспринимавшееся зачастую как синоним чего-то вроде микровождя, работать за которого и на которого обязаны его подчиненные. Можно припомнить еще нескрываемое стремление избавиться от того, что именовали «русским фактором», хотя термин этот весьма несовершенен. Ведь покидали Казахстан не только русские, но и украинцы, белорусы, люди «других кровей». Я уже не говорю о немцах, которые двинулись на историческую родину еще до 1991 года. Кого-то из них занесли в Казахстан превратности Великой Отечественной, иных заманила целина, третьих – ударные стройки пятилеток. Лично я стал казахстанцем в третьем поколении благодаря деду, рискнувшему переселиться в пору премьерства Петра Аркадьевича Столыпина вместе с множеством других трудолюбивых, но безземельных крестьян на плодородные, но притом никогда не ведавшие сохи или плуга ковыльные степи. Не забыть и эвакуацию военных лет, превратившую когда-то Алма-Ату на несколько лет в один из культурнейших городов СССР. Особый разговор о ссыльных. Печальный парадокс в том, что репрессии довоенного периода осчастливили, например, Алма-Ату Юрием Осиповичем Домбровским, который вынужденно, но плодотворно рассказал о городе и Казахстане в известных ныне романах «Хранитель древности» и «Факультет забытых вещей». Отголоски разных по исторической громкости, но весомых событий меня настигали в самых неожиданных местах. Вспоминаю почтенную смотрительницу одного из залов Эрмитажа, с которой я случайно разговорился в Ленинграде. Отроковицей (это я не ради красного словца, она сама себя так называла) она оказалась эвакуированной в Алма-Ате, по мелочам подрабатывала на киностудии, где Эйзенштейн снимал «Ивана Грозного», и оказалась свидетельницей пожара, едва не лишившего наше киноискусство не всем пришедшегося по вкусу, но бесспорного шедевра… …Но эвакуированные и ссыльные в основном и в большинстве со временем уехали. Другие же, по выражению того же министра-дебютанта Умарова, – «не автохтоны», по разным причинам – кто по нелюбви к перемене мест, кто по привычке, кто из-за слишком глубоко пущенных корней – зачастую оставались. Разумеется, полного единообразия в поведении не имелось. Жена моего однокурсника, например, в канун тревожных девяностых безапелляционно заявила мне: «Мы не ходим в нищую Россию». Не знаю, о чем она думает сейчас, но многие проявления современных реалий заставляют припомнить знаменитые строки Редьярда Киплинга: «…Пожните все плоды: / Брань тех, кому взрастили / Вы пышные сады, И злобу тех, которых / (Так медленно, увы!) / С таким терпеньем к свету / Из тьмы тащили вы». Великий британец писал о своих соплеменниках, но и в нашем случае чуть ли не каждая строка не в бровь, а в глаз. По особым разнарядкам выпускников коренных национальностей запросто принимали в престижные вузы или переводили туда же из казахстанских. Один из моих однокурсников, мечтавший стать журналистом-международником, как-то отправился в Москву, побывал в МГУ и в МГИМО, надеясь договориться о переводе. В обоих вузах вполне одобрили публикации, похвалили зачетку и откровенно сказали – были бы вы нацкадром, то без проблем, а так – увы. Словом, все по Оруэллу, все равны, но некоторые равнее! А вот другой соученик, будучи «автохтоном», благополучно перебрался в Ленинград, получил диплом ЛГУ, потом на родине сделался доктором наук и профессором. Несколько позднее его карьерного взлета университет в Алма-Ате навестила делегация польских гуманитариев. Знакомцу моему поручили выступить с приветствием, и свой вступительный спич он начал словами: «Мы с вами представители двух угнетенных народов!» Когда же после мероприятия общие наши друзья-товарищи попытались с разными степенями неласковости урезонить «угнетенного», напомнив ему и крутой разворот от разоблачения казахской эмиграции к ее воспеванию, то услышали в ответ: «Чего пристали? Просто захотелось полякам что-то приятное сказать!» …Теоретически от политики откровенного протекционизма по отношению к «автохтонам» отказались в середине 1960-х годов, оставив поблажки, правда поблажки для прекрасной половины коренного населения республики. Помню разговор в коридоре Карагандинского мединститута двух подружек, схлопотавших на экзамене по тройке. Одна (с виду славянских кровей) уже смирилась, что в этом году ей студенчество не светит. Другая (из коренных), посочувствовав однокласснице, сказала: «Ничего, ты упрямая, потом поступишь. А меня возьмут, никуда не денутся!» Я тоже, помнится, столкнулся с той же проблемой, но в более мягком варианте. В комитете комсомола попросили срочно найти девять студентов коренной национальности и отправиться вместе с ними летом в эстонский интерстройотряд на возведение Прибалтийской ГРЭС. Желающих было много, однако провести лето в заманчивой тогда Прибалтике и даже немного подзаработать хотелось кому угодно, но… не казахам. За четыре дня поисков я нашел всего троих, так что мы поехали вчетвером… Эстонцы, помнится, очень удивились столь скромному десанту. Из других краев им охотно присылали в подобных случаях студентов с превышением желаемой цифры. Коварные кочки негативизма на подобной почве встречались и на экзаменах. Другу моему, шедшему на красный диплом, на госэкзаменах по забытому ныне, но обязательному тогда предмету «Научный коммунизм» профессор задал, так сказать, вопрос на засыпку: не является ли обучение в вузах на русском языке проявлением великодержавного шовинизма и русизма. Что тут было отвечать? А четверка грозила осложнить шансы на аспирантуру, куда и без того «некоренных» рекомендовали нечасто. Пятикурсника спасла любовь к Маяковскому. Палочкой-выручалочкой стали приведенные им в ответ строки: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». В наши дни подобный аргумент, увы, уже не сработает. С «пышными садами» тоже все можно воспринимать буквально. Само название «Алма-Ата», сменившее историческое имя «Верный», переводится «Отец яблок», а яблоки, и в первую очередь знаменитый алма-атинский апорт, стали визитной карточкой города благодаря переселенцам! О целинной эпопее можно и не упоминать. Как к ней ни относись, но Казахстан в результате стал заметным экспортером зерна… Подобные веяния не обходили и спорт. Своими глазами видел и ушами слушал трансляцию заседания Верховного совета, на котором держал отчет главный спортивный чиновник республики. Среди вопросов-претензий прозвучал и совершенно оглушительный по смыслу: почему среди чемпионов и призеров мало представителей коренной национальности и что делается для исправления дисбаланса? Растерявшийся докладчик, как помнится, еле выдавил из себя в оправдание ссылку на то, что этнический состав медалистов отражает национальный состав населения. Перекос в этом вопросе ныне надежно и бесповоротно устранен. Дождемся ли результатов?! Что дальше? Оргвыводы, хотя и не вполне понятные со стороны, сделаны. Будет ли долгосрочный прок? Ведь неприкаянной молодежи, перебравшейся в города из глубинки, в новой жизни себя не нашедшей, меньше не станет! Кстати сказать, уже в феврале дошли через старых друзей слухи, что на Мангышлаке, с которого месяц назад все началось, опять неспокойно!.. Прогнозы я делать не рискну, оставлю это занятие политологам и прочим аналитикам, но приведу в завершение строки из присланного мне алма-атинской поэтессой Светланой Синицкой ее стихотворного послесловия к происходившему: «Скоро мусор с улиц стянут / Гарь рассеется и дым, И убытки ясны станут / Старикам и молодым. / И потянутся, как гуси, / Поскорей отсюда прочь / И Иваны, и Маруси, / Сына взяв с собой и дочь». Очень надеюсь, что она окажется неправа. 22 февраля 2022
|
Последние публикации
Выбор читателей
|