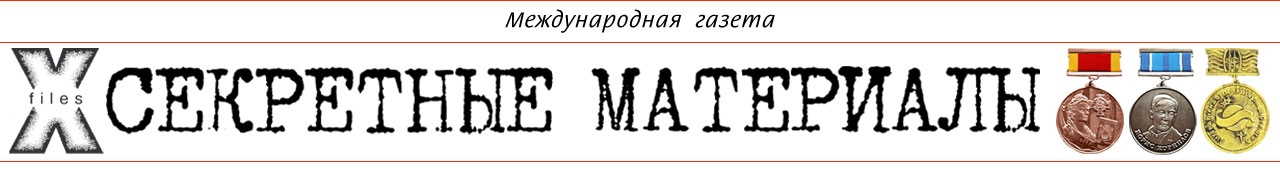|
РОССIЯ
«Секретные материалы 20 века» №4(494), 2018
Город из красного кирпича
Валерий Колодяжный
журналист
Санкт-Петербург
2164

Завод Русского общества «Л.М. Эриксон и К°» в Санкт-Петербурге. Начало XX века
Удалившись от центра Петербурга, где все музеи, парки, набережные, мосты, соборы, особняки и дворцы, можно вдруг незаметно для себя оказаться возле красных кирпичных стен. Именно из такого материала в старину, большей частью на рубеже XIX и XX столетий, строились учреждения казенные, а также промышленные предприятия, чем так славен был Петербург минувших времен. Кораблик на шпиле Первым индустриальным объектом Петербурга стала судостроительная верфь, получившая известность как Адмиралтейство. Место для нее выбиралось ближе к морю и под прикрытием Петропавловских бастионов, поскольку в лесах, окружавших новый город, еще встречались разрозненные отряды шведов. В конечном итоге и само Адмиралтейство стало полноценной крепостью — с валами и наполненными водой рвами. Весной 1706 года там заложили несколько малых кораблей, и уже к концу того года со стапелей сошли 18-пушечный бомбардирский корабль и яхта «Надежда». В скором времени Адмиралтейство заработало в полную силу, и потребовалось строительство еще нескольких верфей, которые и были в кратчайшие сроки возведены. Ими стали Галерный двор в устье Мойки и Партикулярная верфь в истоке Фонтанки, напротив Летнего сада. Что там, что здесь — на всех верфях петровской поры труд был, по сути, рабским. На корабельное строительство отправляли в виде наказания. К примеру, так карались беглые солдаты — причем каждого четвертого пойманного казнили, а троих отправляли на петербургские верфи, где условия были убойными, и потому такая замена считалась равноценной. Принудительное или вольнонаемное, но кораблестроение — исторический вид петербургской индустрии. Родившись вместе с городом, оно существовало, развивалось и совершенствовалось во все царствования и эпохи. Недаром золоченый адмиралтейский кораблик стал символом невской столицы. В Петербурге работали верфи и судоремонтные предприятия, среди которых наиболее заметны Адмиралтейский, Балтийский, Невский и Кронштадтский пароходный заводы; корабли также строились на Путиловской верфи. Статус военного и морского форпоста обусловливал развитие в новом городе и других связанных с оборонными потребностями производств и ремесел, к числу каковых относилось артиллерийское дело. Пушечно-литейный двор, также именовавшийся Арсеналом, был основан в 1711 году на Неве, в начале нынешнего Литейного проспекта. Отливка бронзовых пушек первоначально производилась в формах со ствольным каналом, однако через несколько лет в Арсенале перешли к литью так называемых «глухих» орудий, с последующим сверлением. Условия труда на Пушечном дворе были еще более скверными, чем на верфях, хотя, казалось бы, куда хуже… Среди предприятий оборонного профиля выделялись также пороховые заводы на Петербургской стороне и на реке Охте. Из них первый в лучшие времена давал около двух тысяч пудов пороха в год, а второй — порядка шестисот. Однако приоритет был отдан более удаленному от города Охтинскому заводу, к середине XVIII века ставшему ведущим предприятием данного назначения. Многочисленные лесопильные заводы, возникшие вокруг невской столицы, обеспечивали кондиционной древесиной не только нужды создающегося Балтийского флота, но и текущие градостроительные задачи. Среди деревообрабатывающих предприятий ранней поры выделялась лесопильня на речке Ижоре, со временем превратившаяся в знаменитый Ижорский завод. Развивалось также производство кирпича, а некоторые кирпичные заводы пошли дальше, освоив выпуск высококачественного кафеля и изразцов. В конце царствования Елизаветы Петровны большие объемы кирпича уходили на строительство Зимнего дворца — а как же, высочайшим заказам всегда зеленый свет! Вместе с тем в Петербурге никак не шло изготовление кровельных материалов — гонта и черепицы. Выпускавшееся же имело настолько низкое качество, что государыня Елизавета в одном из указов 1743 года сетовала на то, что черепица «насквозь течет и трескается». Нужды строящегося города в камне, плите, извести и цементе удовлетворялись Путиловскими, Тосненскими, Петровскими и Сокольскими каменоломнями. Но вообще обеспеченность строительными материалами в первые полтора столетия существования российской столицы была недостаточной, что обусловливало обширный их подвоз из других губерний, в частности из богатой камнем Карелии. Заметное развитие получило стекольное производство и огранка стекла, а ближе к 1750-м годам возник Императорский фарфоровый завод, ныне знаменитый. В Петербурге первых десятилетий процветало гончарное дело, выпускалась глиняная посуда. Работали в городе и свечные заводы — предмет сладких грез литературного отца Федора. В те же годы прошло становление предприятий пищевого профиля — прежде всего сахарных, спиртоводочных, пивных и табачных. К середине XVIII века в Петербурге работало порядка восьмидесяти предприятий, из которых около 60 относились к легкой и пищевой отраслям. Промышленность той поры была по преимуществу государственной, что обусловливалось перманентным состоянием войны — то на севере, то на юге и, следовательно, насущными потребностями армии и флота. Труд повсеместно был принудительный, основанный на жестокости, страхе и насилии. Малейшие провинности карались с необычайной суровостью, вплоть до лишения жизни. Но, как при любой деспотии, такой труд не мог быть эффективным, хотя полностью соответствовал военному состоянию невской столицы, равно как и всей тогдашней России. Впрочем, нерентабельные и убыточные государственные предприятия Петербурга существовали, как правило, недолго. В данном отношении показателен пример парусных и канатных мануфактур: этот промысел мог стать успешным при всего лишь двух казенных (Адмиралтейская и Партикулярная) и восьми частных предприятиях данного назначения. Производство разного рода тканей в экономике Петербурга первых десятилетий занимало место очень незначительное, и ничто не сулило Северной столице превращения в один из текстильных центров России. В середине 1710-х годов в Калинкиной деревне, что близ Екатерингофа, заложили Шпалерный двор, где под руководством мастеров, выписанных из Парижа, помимо шерстяных шпалер, изготовлялись шторы и разного сорта парча. Неподалеку государь учредил Прядильный дом, при Елизавете Петровне приобретший, помимо производственного, исправительно-воспитательное назначение, ибо на работу сюда определялись женщины, склонные к разгульной жизни. А шпалерная фабрика вскоре перебралась в Литейную часть, на нынешнюю Шпалерную улицу. В конце того же десятилетия три царских сподвижника, Апраксин, Толстой и Шафиров, основали мануфактуру по производству штофов, бархата и парчи. И хотя новое предприятие в силу понятных причин получило неслыханные привилегии, дело в общем не заладилось, и в скором времени «птенцы Петровы» из компании капиталом вышли. Столь же недолговечными были коломянковая, полотняная и плетеночная мануфактуры, хотя позументные предприятия оказались более успешными. Но, невзирая на отдельные достижения, вплоть до середины следующего столетия Петербург в числе текстильных и галантерейных центров страны не значился. Зато в сфере кожевенного и сургучно-бумажного производства дела быстро пошли на лад. Еще бы! Контора пишет! Среди предприятий данной сферы особо выделялась Красносельская бумажная мануфактура, где сырьем для производства служило не только тряпье и прочие отходы, но и солома, что, например, для заводов Европы было новшеством. К тому же в Красном Селе использовались столь совершенные роллы, каких не знали даже искушенные европейские бумажники. Красносельское предприятие выпускало все тогдашние сорта бумаги, от технической до александринской и гербовой, что позволяло удовлетворить как государственные нужды, так и возрастающие потребности народного просвещения. Основанный в 1721 году Сестрорецкий казенный завод был призван удовлетворить потребности в стрелковом и холодном оружии. Принудительно согнанными рабочими там выпускались ружья, багинеты, кортики, шпаги, а также корабельные якоря, проволока, гвозди, жесть и всякое другое железное. Но в конце 1750-х годов в Сестрорецке из бронзы трофейных и вследствие износа пришедших в негодность русских пушек началось битье медной монеты. При этом разработанный и в 1762 году примененный инженером Яковлевым способ освобождения чистой меди от лигатуры остается неразгаданным и по нынешний день. Российские власти всегда относились с подозрением к своим гражданам, к проявлениям их деловой инициативы и самостоятельности. Петр Первый вообще не доверял соотечественникам, предпочитая все европейское, в первую очередь голландское. И даже на разумные предложения своих соратников, выступавших в защиту экономических и политических свобод собственных предпринимателей, государь в лучшем случае не реагировал никак. Потому столь деликатное дело, как выпуск денег, не могло быть отдано в частные руки и с самого начала было вопросом только государственным. В силу этого Монетный двор не был, подобно Адмиралтейству, превращен в крепость, а уже основан был (1724 год) сразу там, на территории Петропавловской крепости, где находится и доныне. Хоть производство режимное, закрытое, Монетный двор в досоветскую пору организовывал экскурсии — правда, только группами не более шести человек и под зорким контролем начальства. Это и понятно: помимо меди, сырьем здесь всегда служили серебро, золото и, в 1820—1840-е годы, платина. В начале ХХ века о Монетном дворе писали: «Посетителю не приходит даже в голову, что лежащие на полу черные брусья, на которые приходится иногда наступать, и есть то золото, из которого чеканят монеты». Промышленный расцвет Бытовые нужды обитателей раннего Петербурга обеспечивались ремесленниками и купечеством. Но государственную власть во все времена беспокоила и раздражала эта малоуправляемая и плохо предсказуемая сфера. Ее ни на миг не оставляло желание как следует прижать и взять под контроль рыночную стихию. Еще первый император, стремясь организовать жизнь новой столицы непременно на немецкий лад, принудительно разбил ремесленников на 44 цеха, в каждый из них для порядка назначив старосту — «альдермана». Но поскольку, скажем, в 1722 году, согласно данным главного магистрата, среди 1800 петербургских ремесленников подавляющая часть были людьми русскими при 188 иностранцах, в эти чужеродные цехи мастеровой люд вступал неохотно. Череда войн опустошала казну, и в правящих кругах не раз возникало искушение как следует запустить руку в частные закрома, хотя бы под видом продажи купцам за известные суммы чинов и баронских титулов (проект генерал-прокурора Соймонова). К подобной мысли склонялся и сам Петр, незадолго до смерти рекомендовавший Сенату нечто подобное. Той же, в принципе, цели — получить с русского купца побольше золота — служил и появившийся в екатерининскую эпоху Устав о гильдиях купечества. Объявившие капитал в 50 000 рублей считались купцами первогильдейными с правом отправлять иностранную торговлю, а также иметь фабрики и заводы. Купечество первых двух гильдий также получало возможность заключать сделки на Петербургской бирже, основанной Петром в 1703 году. Но подлинное развитие частная инициатива получила в эпоху александровских реформ середины XIX века. В 1863 году полковник Обухов, купец Кудрявцев и отставной флотский офицер Путилов основали Обуховский завод, в скором времени прославившийся своими артиллерийскими орудиями и корабельной броней. Военные заказы всегда составляли для русского правительства предмет особой заботы. А потому вскоре Обуховский и возникший на месте прежней лесопильни Ижорский заводы были откуплены в казну. Там была установлена чуть ли не военная дисциплина, а за качеством выпускаемой продукции наблюдали специально приставленные армейские и морские чины. Так, к примеру, в должности главного надзирающего за качеством корабельных орудий и снарядов, производимых Обуховским заводом, в 1880-е годы состоял заслуженный артиллерист, герой Севастопольской обороны генерал-майор Колчак — отец знаменитого моряка и Верховного правителя России. На оборонных предприятиях Петербурга имелось такое оборудование, что, когда ижорский кузнечный пресс мощностью 10 000 тонн (второй в Европе после крупповского) гнул броню для линкоров нового, дредноутного типа, в Риге сейсмографы регистрировали слабой силы землетрясение. Важным стимулом для становления и подъема тяжелого промышленного производства было наличие казенного подряда — как по линии оборонного заказа, так и в части, касающейся железных дорог, ускоренное строительство которых велось под патронатом правительства. Первой железной дорогой, имевшей для Петербурга и страны серьезное народно-хозяйственное значение, была Московская (Николаевская), пущенная в 1851 году. Скромная чугунолитейная мануфактура, в начале 1850-х годов основанная англичанином Томсоном на Неве близ Шлиссельбургского тракта, была приобретена купцами первой гильдии Семянниковым и Полетикой и преобразована ими в Невский железоделательный, механический и корабельный завод. Однако зависимость частных предприятий тяжелой промышленности от правительственного заказа, имевшего свойство внезапно прекращаться, нередко приводила к финансовым и организационным затруднениям, в разное время случавшимся на Невском, Обуховском и Путиловском заводах, из которых последний относился к числу наиболее выдающихся предприятий тяжелой индустрии. Основанный в начале XIX столетия казенный чугунолитейный завод, к началу александровских преобразований принадлежавший фирме «Дей и К°», влачил жалкое существование, покуда и вовсе не обанкротился. Проданный вскоре промышленнику Путилову, завод обрел поистине вторую жизнь. Деятельный и хваткий, новый хозяин запустил мертвое производство в считаные дни: получив безнадежно стоящее предприятие в январе 1868 года, уже к концу месяца Путилов продал казне первую партию рельсов, причем особых, со сварной стальной головкой, лучших на то время. В них нуждалось путейское ведомство, коим были проложены железнодорожные линии на Варшаву, Ревель, Витебск и Мурманск. Трудно переоценить масштабы экономического и промышленного всплеска, вызванного преобразованиями Александра Второго. Если в области оборонной промышленности Обуховский и Ижорский заводы на мировой арене успешно состязались с германскими — в частности, с концерном «Фридрих Крупп AG», то в машиностроительной сфере равных Путиловскому и Металлическому заводам не было во всей Европе. К Первой мировой войне и последовавшим за ней событиям наша страна подошла мировым лидером по темпам индустриального роста. По большинству экономических показателей Россия уверенно занимала место в первой пятерке наиболее развитых государств планеты. И одним из крупнейших промышленно-экономических центров Европы и мира в 1910-е годы был Петербург. Увядание и закат Если до 1861 года в Северной столице работали 137 предприятий (и то в основном старого, мануфактурного типа), то к рубежу столетий их число возросло до 642, а к началу Первой мировой войны приблизилось к тысяче. Эти заводы, имена их хозяев гремели по всей стране; их знали и за рубежами России: Айваз, Берд, Жорж Борман, «Вулкан», Ижорский, Ландрин, «Лаферм», Лесснер, Нобель, Обуховский, Путиловский, Парвиайнен, Розенкранц, Сан-Галли, Сименс, «Светлана», «Скороход», Торнтон, «Треугольник», Франко-Русский, Экономайзер… Созвучие этих названий и имен составляло портрет дореволюционного промышленного Петербурга. Некоторые имена проникли в городской фольклор, ушли в поговорки, и простые петербуржцы весело распевали частушки о «ландриновском монпансье», «как у Берда на заводе». В результате потрясений конца 1910-х годов все фабрики и заводы перешли в распоряжение рабоче-крестьянской власти, обретя новые («красные») названия, иной раз в честь людей, не имевших к ним отношения: «Большевик» (бывший Обуховский), «Красный путиловец», «Красный выборжец» (Розенкранц), «Красная заря» (Эриксон) и так далее. Наследие ненавистного «старого режима», эти предприятия в скором времени легли в фундамент социалистической индустриализации. В советскую пору некоторые из них в силу политической конъюнктуры сменили по нескольку имен и названий. Завод «Красный путиловец» недолго пробыл таковым, превратившись в Кировский, Металлический завод с приходом диктатуры пролетариата получил имя Сталина, а после «разоблачения культа» стал носить имя XXII съезда КПСС. И ничего, никто не возмущался. Наибольшее число переименований (семь) пережило учрежденное в 1913 году Российское акционерное общество оптических и механических производств. При начале Советов его преобразовали в Государственный оптический завод, а чуть позже — в Трест оптико-механического производства им. тов. Евдокимова, а после того, как «товарищу» Евдокимову дали по шапке и в итоге расстреляли, оно еще трижды меняло название, став ЛОМО имени ОГПУ, пока наконец не получило вроде бы беспорочное имя Ленина. По этой чехарде названий и имен впору писать историю страны в ХХ веке. Путиловский завод, хотя поначалу и получил название, связанное с именем прежнего хозяина, но ненависть к выдающемуся промышленнику не утихала и спустя десятилетия после его смерти. В приступе борьбы с русским православием богоборческие руки дошли до Путиловской церкви на Петергофской дороге (проспект Стачек). Под разгромленным алтарем открылся семейный склеп Путиловых. Чугунные могильные плиты, дабы добро не пропадало, были отправлены в переплавку, а старые гробы разрушители оттащили до ближайшей кочегарки. Но подступил срок, и «по заслугам» получили хозяйственники новой формации, чей вклад в предвоенную индустриализацию страны поистине безмерен. Большинство руководителей советского производства — директоров и главных инженеров ленинградских заводов и фабрик в 1930-е и в первые послевоенные годы подверглись репрессиям. В то недоброй памяти время были арестованы и казнены директора Кировского завода Отс и Тер-Асатуров, директор Металлического завода Пенкин, управляющий Ленэнерго Антюхин, руководители крупнейших ленинградских предприятий Абрамов, Десов, Кондратьев, Коршунов, Ясвоин и другие. При этом советский период не отмечен открытием в Ленинграде заметного числа предприятий, а сравнимых с такими гигантами, как Обуховский, Путиловский или Ижорский, в ту эпоху не было основано ни одного. Это объяснялось не только особенностями экономической модели социализма, но и тем, что промышленная концентрация, достигнутая в Петербурге на рубеже XIX—XX веков, была столь высока, что при хроническом дефиците квалифицированных кадров — в силу войн и некоторых аспектов внутренней политики — непросто было развить мощности, доставшиеся областному Ленинграду от столичного Петербурга. С 1950-х годов начались процессы, связанные с сокращением числа промышленных объектов города путем их закрытия или объединения нескольких в одно. Конец ХХ столетия, по сути, положил конец петербургской промышленности, старинные краснокирпичные здания опустели и в заброшенности руинировались. Не раз объявлявшиеся властями перспективы выноса производств за пределы городской черты грозят Петербургу окончательной утратой статуса индустриального центра России. А добротные сооружения из красного кирпича, по словам представителей властей, станут концертными залами и выставочными пространствами. Дата публикации: 18 февраля 2018
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~FLq41
|
Последние публикации
Выбор читателей
|