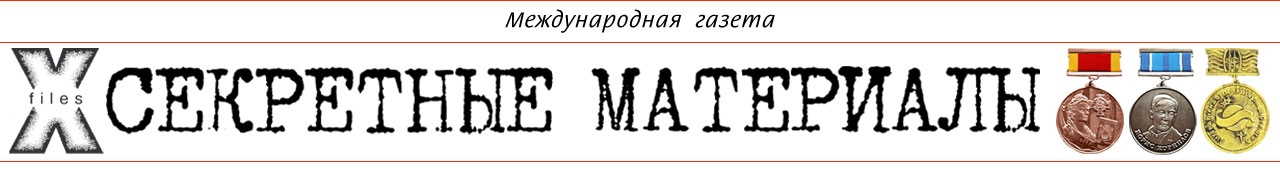|
ВОЙНА
«Секретные материалы 20 века» №16(428), 2015
Военный дневник Тани Вассоевич
Василий Соколов
публицист
Санкт-Петербург
4460

Таня Вассоевич. 1940 год
В ХХ веке, как и в предыдущем, в интеллигентной среде было принято вести дневники. Они служили прекрасным материалом для исследователей эпохи, радовали их рассказами о великих и просто интересных людях, доносили до нас впечатления очевидцев и участников великих и просто знаменательных событий. Увы, в наше время, в немалой степени благодаря развитию социальных сетей в Интернете, дневники и так называемые «ЖЖ» появляются в таком громадном количестве и, увы, в таком, мягко говоря, непрезентабельном виде, что послужат будущим исследователям, скорее всего, исключительно для изучения нравов нынешней широкой публики… А ведь в прошлом веке были обнаружены дневники, которые потрясли весь мир! И в этом нет ни грамма преувеличения. Достаточно вспомнить дневники Анны Франк и Тани Савичевой, чтобы прочувствовать ужасы войны и фашизма. Эти памятники эпохи, созданные детьми, служат и будут служить напоминанием о великой трагедии человечества. ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ ЕЩЕ НЕ ПРОШЛО Чем дальше мы уходим от Второй мировой, от Великой Отечественной войны, тем больше подробностей узнаем о подвигах бойцов, о самоотверженности нашего народа, выстоявшего в самой кровавой бойне в истории человечества. И помогают нам в этом документы, порой совершенно неожиданно попадающие в поле нашего зрения. Впрочем, неожиданно ли? Не всегда пережившие войну люди решаются выставить на всеобщее обозрение свои личные, интимные воспоминания. Так и живут, пока кто-то из родных, близких или друзей не решится обнародовать документы, сохранившиеся в семейных архивах, которые иной раз становятся доступными лишь после смерти их владельца. А ведь даже самые скромные на первый взгляд свидетельства обладают гигантской ценностью и необыкновенным эмоциональным зарядом… Так это произошло и с дневником, который вела ленинградская школьница Таня Вассоевич. Первая запись в нем датируется 22 июня 1941 года. Через два месяца Тане исполнилось четырнадцать лет, а последнюю запись она сделала за три месяца до своего восемнадцатилетия — 1 июня победного 1945-го. Сразу видно, что Таня была примерной ученицей: почерк хороший, читается легко. Кроме того, дневниковые записи сопровождаются множеством фотографий, вклеенных документов и — рисунков самой Тани! Рисунков, сделанных не без умения, тем они и интересны. И самое главное: дневник Тани Вассоевич не пылится в архивах, не находится на каком-то особом хранении. За его доступность мы должны благодарить Таниного сына — петербургского профессора Андрея Леонидовича Вассоевича, доктора философских и кандидата исторических наук, который после смерти Татьяны Николаевны, последовавшей в 2012 году, бережно сохранил и помог подготовить к печати ее дневник. И безусловно, велика заслуга издательства «Аврора», которое, несмотря на все нынешние трудности, воспроизвело этот замечательный документ эпохи. Листаешь страницы с текстом и Таниными рисунками, которые практически не отличить от оригинальной тетради в коричневой обложке. Настоящий издательский подвиг! Вне всякого сомнения, эта книга должна быть в каждой школьной библиотеке — она научит ребят быть свидетелями своего времени, свидетелями заинтересованными и активными. Она научит их любить свою страну даже в самые трудные для нее времена, научит быть настоящими, а не опереточными патриотами.
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ Прежде чем обратиться непосредственно к дневниковым записям, просто необходимо рассказать, почему у Тани была такая несколько странная для русского уха фамилия. А это тоже непростая история, свидетельствующая о многовековых связях православных народов Балкан с Россией. Танин прадед, Николай Милошевич Радонич, принадлежал к старинному черногорскому роду Васоевичей. В 1822 году он закончил в России военно-строительное училище путей сообщения и служил в российской армии вплоть до 1830 года, когда по неизвестным причинам был выслан на родину. После этого он в течение семи лет находился на инженерной службе в турецкой армии — в то время в этом не было ничего удивительного. Бал на Балканах правила Высокая Порта, а все славянские страны и княжества полуострова находились либо в прямой, либо в вассальной зависимости от нее. Князь Васоевич был, видимо, весьма активным человеком, ратовал за отделение и самостоятельность части Черногории на границах с Боснией и Албанией. Похоже, политическая активность и погубила его: в 1944 году он был убит при невыясненных обстоятельствах. Его рано осиротевший сын Бронислав, Танин дед, оказался в России, во Владикавказе. Территории юга России, так называемой Новороссии, начиная с XVII века заселялись выходцами из Сербии и Черногории, о чем говорят и сохранившиеся по сей день топонимы типа Славяносербск. В сороковых годах позапрошлого века правительство империи пришло к выводу, что «дозволение поселяться на южных границах Закавказского края было бы воспринято многими из них (балканскими переселенцами. — В. С.) как новый знак милости русского правительства и противопоставило бы набегам горцев одинаковое оружие». Дальнейшая судьба Вассоевича (который, вопреки правилам сербского языка, обзавелся в России сдвоенной буквой «с» в фамилии) сложилась весьма непросто: женился он поздно, на этнической немке «православного вероисповедания» (а иначе и быть не могло). Вскоре он погиб — семейное предание гласит, что он стал жертвой кровной мести. Это явление, надо сказать, было весьма распространенным в Черногории и некоторых областях Сербии. Далее его потомки вступали в браки с русскими, обрусевшими немцами, поляками, украинцами… Словом, это был настоящий интернационал. К сожалению, и по нему прокатилась зловещая волна репрессий 30-х годов. Отцом Тани стал Николай Брониславович Вассоевич, выдающийся геолог, член-корреспондент Академии наук СССР, человек непростого характера — честного, прямого, но весьма неуживчивого. Впрочем, это нисколько не умаляет его заслуг перед Родиной. Семья ученого жила в знаменитом доме № 39 по 6-й линии Васильевского острова. По семейным обстоятельствам Танина мама Ксения Платоновна вместе со старшим сыном Владимиром на несколько лет уехала во Владикавказ, однако незадолго до начала войны семья опять собралась в «доме ученых», на котором бросается в глаза неимоверное количество мемориальных досок. Здесь семья и встретила войну…
БЛОКАДА Как могла встретить известие о начале войны девочка неполных тринадцати лет? «Мама плакала. Я улыбалась. 22/VI. Ночью была первая настоящая тревога, но она через 5 минут кончилась и все обошлось благополучно. Весь день 22-го прошел в хлопотах: бегали с Вовой и мамой по магазинам и в сберкассу и к Люсе. Наш жакт принимает соответствующие с войной меры; навозит песок, достраивает бомбоубежище, пока дети дома спускаются к нам в I этаж». (Орфография дневника сохранена.) Особой тревоги пока еще ни у кого нет, но предчувствие беды крепнет. Заходят разговоры об эвакуации. 30 июня Таня записывает: «Днем зашла в школу, и директор сказал, что эвакуация в обязательном порядке. Вечером суматоха. Срочно складываем вещи. Софья Иосиповна сказала Ириной маме «по секрету» что те, кто сдаст вещи сегодня, до 11 ч. вечера, будут эвакуированы первыми и жить в гораздо лучших условиях… Отъезд назначен на 1/VII к 11 часам утра». И тут уже начинается что-то вроде легкой паники — давка в трамвае, следующем к вокзалу, а в поезде «принялись за завтраки — у всех поразительный аппетит». Словно в предчувствии… Ехать скучно, и ребята начинают развлекаться. «Вот мы с Суворовым нашли дело: сочинила я «послание», и мы его закуповариваем в бутылку… Суворов кинул ее в реку». Вот текст этого «послания»: «1 июля 1941 года. Это писание кинули ребята, эвакуированные из Ленинграда по случаю войны между СССР и Германией, объявленной 22/VI — 1941 г. Найдйенного просят доставить в музей Революции т. к. все писавшие погибли от пуль фашистов». У меня при чтении этого текста мурашки по коже побежали… Школьников увезли на Валдай, но вскоре за некоторыми из них приезжают матери, и Таня с мамой 16 июля возвращаются в Ленинград. Запись от 17.07: «Как интересно ходить по городской квартире после того, как долго живешь в деревне. Везде так светло при электрическом свете, так свободно!» Но тревога нарастает: «В Валдае мы были оторваны от мира и ничего не знали о фронте и о жизни города. Только приехав в Ленинград я узнала что с 18 июля вводятся карточки. Конечно, мы приняли соответствующие меры, т. е. весь день 17-го гонялись по магазинам…» Потом последовало рытье окопов в Гатчинском парке, первые бомбежки. В дневнике мелькают короткие записи: «1 лопата на 100 человек», «Спасайся кто может». И тут же — выразительный рисунок: паровоз тащит пассажирские вагоны, над ним — самолет с крестами на крыльях, от которого отрывается бомба, и подпись, шокирующая своей лаконичностью: «Да или нет?» Таня еще подробно описывает пожар на Бадаевских складах, но постепенно записи становятся все короче: «Школа с 1 сентября не началась, и со школьными ребятами я совсем не встречаюсь… С 20 сентября начали бомбить Петроградскую, с 11 октября В. О. р-н. 15 октября выпал снег. 3 ноября начались занятия в школе». Далее следует самое страшное: в пространном описании (наверняка задним числом) школьных дел попадаются две склеенные странницы, «чтобы никто не видел самого сокровенного». На них — описание похорон и «план Лютеранского кладбища (часть Смоленского), где я похоронила Вову и маму 23/I 1942 г. и 17/II 1942 г.». «Вова и мама похоронены в настоящих гробах, которые я покупала на Среднем проспекте у Второй линии за хлеб. Худяков вырыл (могилу. — В. С.) за крупу и хлеб. Он хороший и взял с меня что у меня было и не ругался и был добр ко мне». Читатель, у тебя не сжимается сердце?
ЭВАКУАЦИЯ Танин отец, известный геолог, находится в командировках за пределами Ленинграда. Он бомбардирует телеграммами «нефтянку» (ВНИГРИ, геологоразведочный НИИ) с мольбами отправить дочку к нему, в Сухуми. Процесс «оформления» длится месяц. «Мы говорили с директором Субботиной, та обещает что-нибудь для меня сделать: дать денег, устроить в стационар, отправить к папе». И приписка карандашом: «Ничего не сделала. От меня бегала». Однако дело сдвинулось с мертвой точки. Запись от 2 апреля 1942 года: «Мы уселись в вагоне у окна. Вагоны были дачные… Поезд отправился вместо 8 ч. утра в 5 вечера». Через двенадцать часов состав прибыл на Ладогу: «Машин было много, но сначала садились с бою. Мы также уселись на открытый грузовик». Апрель 1942-го — еще действует Дорога жизни. Таня записывает третьего числа: «Озеро! Какое огромное озеро, едешь, и нет конца, ветер, холодно. Но наше счастье, мы летели очень быстро, скоро обогнали всех других и, конечно, раньше приехали в Жихаревку… Высадили нас на снег, сытно накормили и часов в 5 вечера сели в стоящий рядом товарный эшелон». Сели — это очень громко сказано! Вагон битком набит беженцами, и «15 суток мне негде было прилечь… Потом мне разрешили сесть на край скамьи верхней полки, я сидела на самом краешке. Одна нога была на балке на стене вагона, другая опиралась о настил полки. Это было почти как шпагат. Но я же ходила в балетный кружок в школе!!!» И опять будничная приписка карандашом: «Когда в вагоне кто-нибудь умирает, то на ближайшей станции их складывают аккуратно штабелями, как дрова, а я отворачиваюсь, чтоб не видеть». Мирная эвакуация, путь по всей Центральной России с ее военными бедами. Еще одно поразительное, но стыдливо завуалированное свидетельство — под изображением молодой девушки подпись: «Прямо или упрешь? Так говорит Тося каждому встречному. Я стесняюсь ходить с ней, она так знакомится с молодыми людьми». И это пишет девочка, на долю которой в четырнадцать с половиной лет выпали такие страшные испытания! Май начался, а эвакуация все продолжается. Опять в дневнике рядом с рисунками появляются лаконичные подписи: «Сменяла Вовину шубу на 3 кг масла + 200 р.». Много это или мало? А под изображением девочки на мосту стоит: «Не броситься ли?» Вот уже и Северный Кавказ. В дневнике начинаются вклейки. Бланк: «Санпропускник. Изопропункта ст.Тихорецкая. Вассоевич (вписано чернилами) Санобработку прошел «12/5»___1942 г. Деж.врач (неразборчиво)». Далее таинственные буквы и цифры: МА — 590 з.707 — 15000. Поясняю: две буквы с цифрой — отметка военного цензора, «з». — заказ и тираж бланка. 15 000! И еще одна записка — чернилами от руки, зато заверенная круглой печатью: «Начку ст. Тихорецкой. Просим дать белет На один человек Ленинградской девочке Вассоевич Т.Н. до ст.Мин.Вод. Начник эв. пункта» — подпись, дата — 11.5.42 год. И последний документ на этих страницах — записка от начальника эвакопункта в Минводах: «Начальнику жед.дор милиции. Прошу выдать пропуск девочке: Васаевич Т. Н. до ст. Сухуми. Следующей к месту нахождения отца. Эвакуированной из Ленинграда». Таня добирается до Грозного, но это ведь — 1942-й! В Сухуми не пробиться, и бесконечная эвакуация продолжается: Гудермес, Махачкала, Баку, Красноводск и дальше, дальше, дальше… В дороге Тане исполняется пятнадцать лет: «Думаю, что никто не встречал так, как я, свое пятнадцатилетие…» А там — Ашхабад, Чарджоу, Самарканд. «Утром мы в Туркестане… Отстали от поезда в Кызыл-Орде… Конечная остановка в Стерлитамаке». Молодежь, учи географию! Там — наконец-то покой и школа. Но еще одна трагическая запись в дневнике: «7-е ноября. Узнала, что Сережа умер. Я так его любила и люблю. Это ужасно. Умер родной брат Вова и двоюродный — Сережа. Больше никого нет».
О СВОЕЙ ЖИЗНИ Потом все-таки встреча с отцом, опять скитания, теперь уже с ним, по Средней Азии в составе геологических экспедиций. 13 декабря 1943 года — нечаянная радость: «Вечером была в кино! Наконец-то, 1 раз за всю осень и зиму. Смотрели «Воздушного извозчика». Постепенно налаживаются и личные отношения с отцом, который успел обзавестись новой спутницей жизни. Еще одна радость: «Вчера открыли II фронт!» И еще: «И вот мне семнадцать лет! Я не верю этому. Читаешь про людей 17-ти лет, да и видишь некоторых. Это уже взрослые люди, на их веку уже чего только не было. Кто влюблен, кто жених, а кто и женат был. А я еще совсем ребенок». Поразительные строки! Девочка, подросток, юная девушка, прошедшая через такие испытания, считает себя «еще совсем ребенком»! Посмотрите на нынешних семнадцатилетних: они уверены в том, что уже стали совершенно взрослыми и самостоятельными. Кто-то уже развивает свой бизнес, кто-то увлекается наукой, кто-то… А кто-то уже настолько «повзрослел», что считает возможным напиваться, обкуриваться и обкалываться. Не собираюсь хаять сегодняшнее юное поколение, но не могу не отметить, что жизненные пути многих из них диаметрально противоположны. Наверное, тем, кто направился «не в ту сторону», не хватило в жизни испытаний, чтобы ценить ее, эту самую жизнь. Конечно, я категорически против того, чтобы молодые люди закаляли свои характеры в войнах и в других драматических ситуациях. Но многим из них следовало бы знать и крепко помнить о том, как жили их сверстники в тяжкие годы и как они, несмотря ни на что, сохраняли чистоту души и помыслов. Вот еще одна большая запись: «Что будет. В какое время живем мы сейчас! Вот когда читаешь «Войну и мир», то думаешь: в какое важное время они жили! А мы? Эта война еще больше Наполеоновской. Тоже нашествие в Москву и «в Берлине росс… где факел мщенья». Я помню, мне кто-то сказал, что все люди, пережившие эту войну, а тем более ленинградскую блокаду, — исторические. А я никогда над этим не задумывалась. Последнее время особенно». Война уходила из ее жизни…
ПОСЛЕДНИЕ СТРОКИ В середине февраля 1945 года Таня делает в дневнике радостную запись: «Как много нового! Интересно, что скорее кончится, тетрадь или война?» И далее, практически до конца тетради, записи становятся иными: нет более констатации ужасов войны, нет коротких сообщений, не встречаются уже многочисленные прежде документы — справки, выписки, пропуска, свидетельства о смерти и о выдаче продовольственных карточек. В стране уже царит победная атмосфера — это уже не вера в поражение врага, а уверенность в его полном разгроме. Только одно точит душу — когда, когда же? Скорее, скорее! И строчки дневника стали плотнее, быстрее. Все чаще встречаются в них рассуждения о будущей жизни, об учебе: «Но буду благоразумна. Буду учиться. Вот сейчас возьму и сяду за математику!»
«СЕЙЧАС СКАЗАЛИ, ЧТО КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!» «Вот день, которого миллионы людей ждали почти четыре года. А ждала ли я его? Да, я повторяла за всеми: «Скорей бы кончилась война!» Конечно, я хотела, чтобы она кончилась, но было что-то другое. Может, я боялась этого дня; я считала, что встретить его я должна как-то серьезно… чтобы я в это время где-нибудь по-настоящему работала. У меня не было радостного веселья, у меня была какая-то строгая радость…» Поразительно точно сказано — строгая радость! Со слезами на глазах — и надо делать что-то серьезное, ибо победа — праздник, требующий серьезного труда и усилий — физических и духовных. Семнадцатилетняя девочка поняла это намного лучше и точнее, чем многие умудренные жизненным опытом взрослые люди. И в окончание рассказа о военном дневнике Тани Вассоевич нельзя не процитировать ее необыкновенные слова, записанные первого мая победного года. «Если с тобою, Таня, будут не согласны, если будут говорить, что то, что ты делаешь, — ненужно, или что ты зря вкладываешь так много сил, то ты не соглашайся прямо, не прочтя этого и не подумав. Очень часто бывает, когда ты с рвением взялся за что-нибудь, творишь, переживаешь, радуешься и мучаешься, уверенный в том, что это действительно нужно и верно; и вдруг какой-нибудь авторитетный и почтенный человек с доброжелательным видом покачает головой и скажет: «Зря ты это стараешься», не верь ему, он говорит так потому, что не способен увлечься или понять, что прелесть жизни и есть это увлечение, работа». Подписываюсь под каждым этим словом. Дата публикации: 6 июля 2015
Постоянный адрес публикации: https://xfile.ru/~G0A1z
|
Последние публикации
Выбор читателей
|